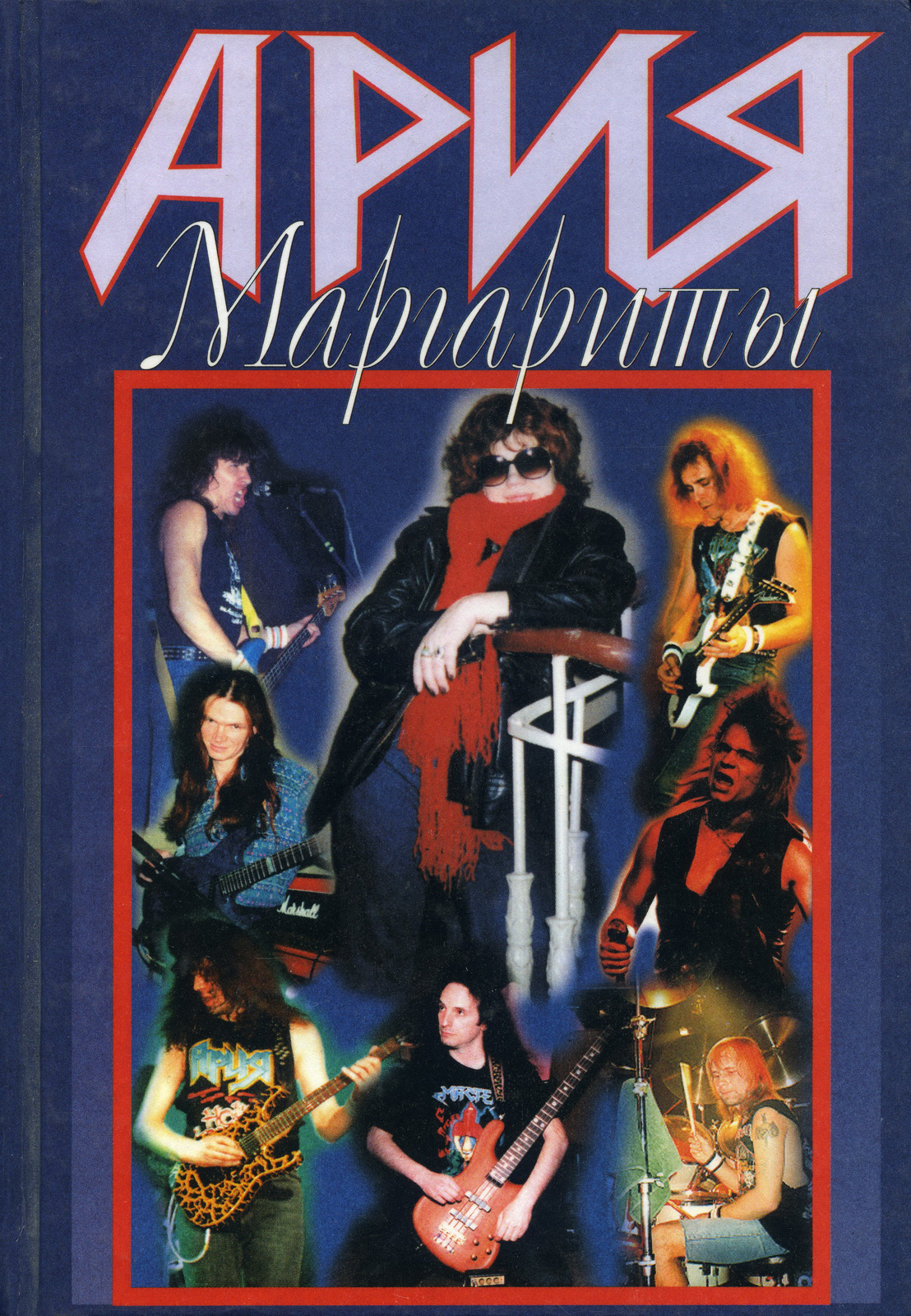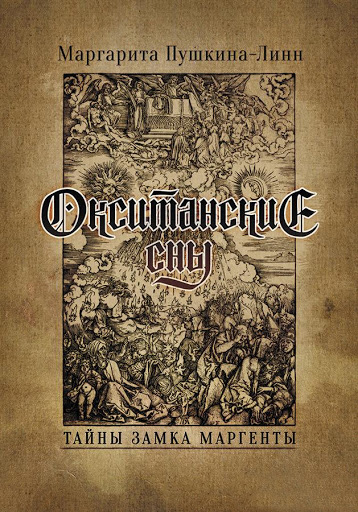Главная - Лирика и проза - Проза - ОТТОПЫРЕННОСТЬ
ОТТОПЫРЕННОСТЬ
(имеет отношение к Похождениям Иеронимуса Б. . Фамилии и имена действующих лиц, являющихся реальными людьми, изменены)
- Глюки. - Лизон Батори с уважением посмотрела на озадаченного Иеронимуса. – Люблю глюканутых…
Лизон была местной, вроде бы из готов. На самом деле ее звали Елизавета, а официальная фамилия по отцу, участковому Кондратьичу, была достаточно цивильная - Гиева, не вызывающая трудностей в произношении ни у нянечек в детском саду, ни у преподавателей начальной школы. В классе, кажется, восьмом, девочка прибавила к фамилии пару слогов – Вальпур, после того как увидела по «ящику» балетную сцену из оперы «Фауст». Козлоногие сатиры, бодро скачущие под музыку Гуно, и прикрытые кисейными лохмотьями симпатичные ведьмочки потрясли воображение будущей готессы. Надставленная фамилия отталкивала громоздкой тяжеловесностью, а для взрослого уха звучала немного комично (что, несомненно, огорчило бы Мефистофеля, знай он об этой истории). Но для подростка с комплексами таинственной многозначительности - в самый раз: Елизавета Вальпургиева. Пусть если не трепещут, то хотя бы задумаются… Те, кто понимает, о чем речь.
Исподволь погружаясь в депрессивную пучину эпохи полового созревания, девушка успела отличиться на подростковых фронтах и как Элизбет Кондретшведская, и Барбело Альбум-Зальцбургская, и - коротко - как Лиза Мунспелл. В окончательном выборе ника (не столько для себя, сколько для тусовки) помогла определиться одиозная графиня Батори* - не без помощи чрезвычайно продвинутой рок-группы Cradle of Filth.**
- Далась тебе эта Батори! – морщился Иеронимус, отправляя в мусорку неумело нарисованные Лизон лохани с хилыми трупиками юных жертв помешанной на идее бессмертия графиней. – У нас одна Салтычиха десяток твоих Баторей стоит!***
- Ты сравни, как звучит: Ба-то-ри и Трындычиха твоя! … Разве может настоящая готка Салтычихой назваться? Позорище. Еще Акулиной или Авдотьей вместо Элизабет меня назови. Болото ты, Иеронимус, непроходимое, та самая трясина, где собака Бо… Боскервилли жила!
- Не Гримпенская трясина я, - миролюбиво отмахивался Иеронимус, отваливая девушке пол-кастрюльки традиционно недоваренных макарон. Предполагаемая готичность облика и образа мыслей никоим образом не влияли на отменный аппетит Лизон. – А собачка та была из рода Баскервилей, учи матчасть, Бобо!
Под ему одному слышные аплодисменты ложек и поварешек молодой человек эффектно окроплял макаронную гору ярко-красным кетчупом – ни дать ни взять кровушка какого-нибудь пенсионера, не желающего разжижать ее прописанным врачом аспирином. Понятно, что делал Иеронимус это для пущего нагнетания готической атмосферы на маленькой совсем не готической кухне, окна которой закрывали веселенькие занавески в оранжевый горошек величиной со старую пятикопеечную монету.
…Елизавета никогда не примеряла скромные одежды Аленушки, приросшей в тоске своей к серому камню у васнецовского пруда, или кокошник-трансформер умницы Василисы Прекрасной. И кружевной ночной чепец молодой дворяночки, обчитавшейся французских романов, был бы с ненавистью ею отвергнут. Лизон жаждала чего-то авантюрного, темного, дышащего опасностью и вседозволенностью для отмеченных печатью Высших существ. По ночам она любила зажигать витые черные свечи и до помутнения в глазах вглядывалась в ровное, окруженное золотистым ореолом, пламя. Иногда ей казалось, что один из лучей вдруг начинал удлиняться, превращаясь в некое подобие тончайшего лезвия – он бесшумно и безболезненно вспарывал темноту комнаты. Но, вопреки ожиданием, за этим ничего сверхъестественного не следовало – в кресле, до которого дотягивался луч-мутант, не появлялась таинственная фигура в черном, и никто не произносил низким колдовским голосом:
- Ах, мое царствование закончилось так быстро, ибо Темные Боги слишком крепко спали, чтобы услышать мои мольбы! ****
У елизаветиного прадедушки на почетном месте, над старым списанном в министерстве кожаным диваном висел портрет тирана и генералиссимуса Иосифа Сталина, у прабабушки над телефонной тумбочкой – засиженный неистребимыми московскими мухами портрет профессора Пирогова. У дедушки с папиной стороны на кухне изо дня в день дряхлел от паров незамысловатой стряпни и запахов щей прикнопленный к посудному шкафчику Юра Гагарин, у бабушки с маминой стороны в спальне красовался портрет несгибаемой мадам Комиссаржевской… Кондратьич под портреты героев знакомых ему эпох отвел весь коридор – со всевидящим Юрием Андроповым соседствовал пламенный Лев Троцкий, с плачущей фигуристкой Ириной Родниной – Никита Хрущев с ботинком в руке. Темное пространство озаряли светом своих разноформатных лиц и Никита Михалков в молодости, и речистый Горбачев с Маргарет Тэтчер, и еще не успевший растолстеть артист Стивен Сигал, и не успевшая дойти до стадии увядания роз Дженис Джоплин…Битлы-Битлы-Роллинги-Роллинги-Гребенщиков-Градский-Битлы- Дип Пепл с Блэкмором – Иван Козловский… Вместо портретов политических звезд сумбурного настоящего Кондратьич вывесил целую галерею изображений плюшевых медвежат в различных позах и кадры из фильма «Властелин колец» с Голумом и размашистой надписью золотым фломастером – «Моя прелесть».
Подобная бытовая многоликость претила Елизавете. Тонкой швейной булавкой с жемчужной головкой она пришпилила над своим изголовьем, где обычно католики вешают распятие, вырезанную из чудом попавшего в руки венгерского журнала картинку с полустертым изображением графини Эржебеты Батори, по преданию родившейся в одном из мрачных замков Трансильвании.
- Она отбеливала волосы шафраном… А я когда-то наверняка была летучей мышью… в Трансильвании. Это такое место, такое место! – Лизон смешно вытягивала губы трубочкой и издавала чмокающий звук. – Я была счастливой летучей мышью!
При этих словах Иеронимус обычно вспоминал увиденный еще во времена расцвета кабельного телевидения фильм, который назывался не то «Заблудившиеся дети», не то «Потерявшиеся дети». Там, в довольно комфортной пещере у калифорнийских, правда, а не трансильванских вампиров, десятки откормленных, глумливых летучих мышей болтались вниз головами рядом с огромным портретом Джима Моррисона, которого упыри, судя по всему, считали своим в доску парнем…
Взяв себе фамилию взбалмошной графини, Елизавета, конечно же, не собиралась раздевать кого-то из своих подруг, обмазывать их медом и оставлять на растерзание пчелам, хотя у еще здравствующего прадедушки, почитавшего тирана Сталина-Джугашвили, была в Подмосковье своя пасека. Да и превращать девчонок в ледяные статуи на морозе не было никакого желания – заложенный с рождения гуманизм и пацифизм все-таки брал верх над искусственностью низменных наклонностей. Но какой кайф – пройтись по Старому Арбату, распугивая смуглых туристов-индусов, отечественных бомжих и попрошаек умопомрачительной компанией, похожей на свиту вошедшей в историю кровопускательницы!
Двух одноклассниц, готовых от скуки и ненависти ко всякого рода кастрированным школьным наукам пройти огонь, воду и медные трубы всех небесных архангелов, неизвестных и известных земных оркестров, не пришлось долго уговаривать. Они нарекли себя «снежными демоницами», соорудили соответствующий гардероб и были готовы стартонуть на Арбат по первому зову Елизаветы. С персонажем, подходящим на роль верного графине шута-горбуна Фицко, дело обстояло посложнее.
Иеронимус в расчет не шел – он был хорош дома, на месте, у своего телескопа, неизменно направленного в сторону красноватого Марса, или на каком-нибудь отвалибашка-концерте: голый по пояс, играющий бицепсами-трицепсами, татуированный и выкривающий что-нибудь яростное и нечленораздельное. Вдобавок после конфуза с собакой Баскервилей, ему нравилось дразнить подругу карамельным прозвищем «Бобо», а самое графиню он считал вымыслом помешанных на бесчинствах черной аристократии графоманов. Или – что тоже не было лишено смысла – Иеронимус в просветительских беседах с Лизон то и дело пытался представить красавицу Батори жертвой гнусных интриг завистников и охочих до чужого злата церковников. В минуты нудного атеистического ликбеза Лизон мрачнела, рисовала на обеих щеках черной краской кресты и, любуясь своим отражением, произносила замогильным голосом:
- Где твоя фантазия, глюкач? Где твоя фантазия? Ты убил ее, подлец…
Живописного типа, подходящего на роль смышленого ассистента в смелых похождениях, Лизон увидела в мясной лавочке на шумном дешевом рынке недалеко от почтенного Преображенского кладбища. Карлик ловко помахивал топориком, лишая конечностей и аппетитных филейных частей новопреставленных поросят, телят и их горемычных родителей. Иеронимус не знал точно, что Елизавета наплела малограмотному мяснику о развлечениях венгерской графини, но тот крепко подсел на Батори-стори. И даже – о, святые грешники! – вскоре сам стал придумывать умопомрачительные байки о делах смертельно скорбных, участником которых он якобы был в своих девяти прошлых жизнях. Фантазия у карлика работала бесперебойно, истории получались ужасающе правдоподобными. Его разделочный топорик упокоился в самодельном футляре-гробике, выполненном мастерущими руками Лизон. Он сопровождал карлика во всех путешествиях с девушкой, включая концерты заезжих и местных рок-групп, оглашающих атмосферу ночной столицы то утробным рычанием, то безумными воплями забывших придти в себя берсерков, то околооперными вокализами по нордически крепких красавиц. Как Елизавете свет-Батори с дружком удавалось обмануть бдительность охранников и проносить чертов гробик с топориком в зал, для Иеронимуса оставалось неразрешимой загадкой.
Вернувшись после очередного концертного шабаша, Лизон смешно изображала, как Карлуша бережно прислонял дорогой ее сердцу футлярчик к барной стойке, заказывал трехлитровую кружку пива, как лениво отмахивался от разгулявшихся тусовщиц, требующих выложить на всеобщее обозрение легендарное орудие забоя скота. Глумливые улыбки и перемигивания не оставляли сомнения в том, что их занимало вовсе не содержимое зловещего сундучка. «Карлуша, а Карлуша? - ворковала изрядно подвыпившая дива в серебристом комбинезоне, подергивая ассистента Лизон за брючный ремень. - А как у нашего Карлуши получаются карлушики?» На что экс-мясник меланхолично и неспешно выливал остатки пива на кудри расшалившейся нахалки и по-бычьи бил головой точно в пупок ее начинавшего свирепеть кавалера.…
Похождения готичной троицы - Карлика, топора и Лизон - решительно пресек участковый Кондратьич, однажды ночью застав мясника за метанием топорика в насаженный на кол кочан капусты. Ну, так что? Собаки давно уже справили свои большие и малые дела во дворе, о детях и говорить не приходится – самые дисциплинированные видели десятый сон, а бесконтрольные лениво переругивались по скайпу с приятелями или под видом подготовки к контрольной по физике резво окучивали порносайты… То есть упражнения мясника с топором представляли реальную угрозу разве что для какого-нибудь загулявшего от горя безработицы технаря или бывшего интеллигентного человека, обреченного бездомностью на долгие бдения под открытым небом.
Разрубленный кочан упал точно к надраенным до зеркального блеска ботинкам Кондратьича. Орудие же вонзилось в ствол доживающей свой век липы, под сенью которой, по легенде, молодой царь Петр Первый щекоткой доводил до визга шалунью Анну Монс. О, какими красноречивыми были выпученные от страха и от понимания того, что произойдет секундами позже, глаза Лизон – папа, милиционер-отличник, шутить не любил и просто не умел.
- Топорик забрал, - хлюпая носом, докладывала часом позже Лизон неохотно оторвавшемуся от созерцания Марса Иеронимусу, - папка Карлушу куда-то увел, и гробик с топори-и-и… И-и-и-и-и, - последний звук некрасиво растянулся, выступая оригинальной увертюрой к бурным рыданиям с иканием и громкими сморканиями.
- Эй, Бобо, возьми, пригодится, - Иеронимус протянул девушке рулон туалетной бумаги. Дальше все было делом деликатного искусства отвлечения от навязчивых мыслей – не позволить ей опять замкнуться на дорогих сердцу потерях, не дать возможности завыть и застенать по-старушечьи. – Я вот никак не могу понять, Бобо, - продолжал он развивать свой успешный маневр, - почему твой с виду старорежимный папаня не пришлет ко мне наряд своих коллег, не обвинит меня в изнасиловании несовершеннолетней дурочки, не объявит растущую на окне петрушку коноплей и не начистит мне морду в участке… А, Бобо?
-Еще раз назовешь меня Бобо, марсианин хренов, - закричала Лизон, метко бросая в лоб Иеронимусу радостно развернувшуюся на лету и почувствовавшую себя китайским бумажным змеем туалетную бумагу, - на самом деле объявлю твою петрушку коноплей! Подожгу твою конуру, прокушу тебе шею, перегрызу яремную вену и…
-Выпьешь всю отравленную твоим же ядом кровь, - закончил за нее Иеронимус и врубил на полную мощь песню «Сталинград» *****, бывшую на этой неделе у них в неоспоримых хитах.
Фокус удался. Лизон захохотала.
- Папка у меня один такой на всю милицию. Он за сексуальную революцию… Похоже, у нас дед был хиппи, настоящий, из Системы, Сис-те-мы. Папка, знаешь, сколько морковного сока выпил в детстве и сколько травки сам нанюхался, пока образцовым ментом не стал по зову измученного вегетарианством сердца?
… Топорик не всплывал ни по одному уголовному делу – ни по связанному с простым убийством, без всяких наворотов, ни с какой-нибудь зверской расчлененкой.. Впрочем, и Карлуша как в воду канул. В мясной лавке о нем ничего узнать не удалось – на расспросы Лизон смуглые хозяева пожимали плечами, цокали языками, страдальчески закатывали глаза под потолок. А потом вообще вычеркнули карлика из летописи разделочно-потребительского цеха и взяли на его место здоровенного, под два метра роста, скуластого парня с синеватой наколкой «Free my ass»****** на волосатой груди .
Теперь при встрече с Иеронимусом участковый Кондратьич лучезарно улыбался, с шиком брал под козырек, иногда складывал пальцы «козой» или «рогулькой». Под дверью квартиры, где жил Иеронимус и частенько появлялась Лизон, неделю спустя после рассечения капустного кочана был обнаружен оплакиваемый дочерью участкового футлярчик-гробик, набитый брошюрами о неизлечимости СПИДа и вьетнамскими презервативами.
Но пришло время, пробил нужный час, и карлик материализовался… На выбор узкого круга посвященной в топорно-готическую историю общественности были представлены две истории о дальнейших похождениях поднаторевшего в сочинении упырских баек Карлуши.
Согласно первой версии, где-то в районе города Дмитрова объявилась некая бабища-богатырша, великанского роста, с мохнатыми брежневскими бровями, одна нога – что полноценный дуб-колдун, а уж две! Зарегистрировалась она как владелица частного хозяйства по выращиванию некрупных нежных огурчиков. Горбатились на богатыршу представители больших и малых народов и народностей, включая застывших в вечном почитании силы китайцев.
Бабища держала работников не то чтобы в черном теле – сказать так, значит малой толики страданий этих безропотных горемык не описать. Гноила их в пропахшем канализацией подвале, кормила какой-то блевотной бурдой, миловаться и плодиться строжайшим образом запрещала… Появлявшиеся вопреки строгому запрету редкие дети через пару дней загадочно исчезали – по слухам, шли на корм свиньям, на стволовые клетки и на донорские органы для бразильских миллиардеров и арабских шейхов. И вроде бы главным бухгалтером у этой жуткой бабищи был карлик, по описанию очевидцев здорово смахивавший на пропавшего Карлушу. Двойник мясника гордо вышагивал по огуречным парникам, облаченный в добротную импортную кожу, поскрипывал штанами и косухой и, если что не так, сразу бил головой провинившегося работника в солнечное сплетение. Мужики, пившие вместе с ним у продуктового магазина, клялись и божились, что после распитой на троих бутылки водки карлик начинал монотонно бубнить одно и то же, не меняя интонации и выражения глубоко посаженных черных глаз-пуговок: «Суррогатов не держим, не держим мы суррогатов, мы настоящую нашли, баторку настоящую…».
ОМОН, направленный по требованию встревоженного населения для восстановления расовой и трудовой справедливости на паре гектаров дмитровской земли, брал нехорошее хозяйство штурмом. Брал, да не взял… Карлуша (если это, конечно, был он), мастерски поставил не только по периметру хозяйства, но и по всему дому растяжки-«чеченки». И, сам на них подорвавшись, прихватил с собой к праотцам с десяток служивых, бровастую бабищу и невинный подневольный интернационал, заточенный в вонючем подвале.
Вторая версия выглядела более гламурно, по-столичному… Примерно через полгода после исчезновения карлика с его топориком, художественная тусовка была потрясена появлением нового, ни кем из знатоков не предсказанного героя. Даже знавшая все наперед разбитная барышня-критикесса Наргисс не произносила судьбоносного пророчества о появлении столь стильного персонажа. Она почивала на лаврах первооткрывательницы моды на ношение подлинных павловских платков поверх белых бельевых корсетов с отстроченными коричневым чашечками. Исключительно для жен олигархов.
На одной из выставок неимоверно талантливый, по мнению ценителей современной живописи, но очень низкорослый художник с уныло свисающими (надо полагать, в пику Сальвадору Дали) буквально до ключиц усами представил написанный в оригинальной манере портрет… той самой графини Батори. Портрет, с общечеловеческой точки зрения, был стопроцентно ужасен. Левый, полуприкрытый, глаз графини художник расположил сантиметра на 4 выше широко открытого правого, скосил его к носу; нос схематично обозначил черной жирной линией. Вместо обычного рта новоявленный гений, видимо, пытался написать яркую розу, колючий стебель которой должен был бы, по дерзкому замыслу, перейти в шею изуверки. Розы не получилось – обильно выдавленный из тюбика на полотно крапп-лак смотрелся вспученным, выплюнутым чахоточником куском кровавой плевры… Однако, не смотря на явные признаки отсутствия элементарного умения рисовать, хаотичность черно-красных и коричнево-серых мазков удивительным образом влияла на зрителей. Наиболее впечатлительные тут же, не отходя от портрета убийцы 650 нежнейших девиц, впадали в стойкую депрессию.
В нижнем правом углу картины бросался в глаза реалистично выписанный топорик, лежащий в гробовидном футляре. На лезвии топора сидела большая бабочка с черной каймой на крыльях. Словно кто-то посторонний, не увлеченный вихрем страстей и обид стареющей Батори, и с отличием окончивший соответствующую Академию художеств самого Ильи Глазунова, в шутку дописал картину. Этот элемент ценителями современной живописи был признан самым неудачным, а с общечеловеческой точки зрения являл собой редкую удачу для безымянного представителя нового искусства.
Слухи о выставленном в галерее «шедевре» неминуемо достигли ушей Лизон. Группа приведенных ею готов-баторианцев простояла у отнюдь не маленького полотна около часа, отпугивая траурным выражением лиц и своим кладбищенским молчанием пижонистых посетителей выставки. Наконец Елизавета нарушила становившуюся уже угрожающей для коммерческой стороны предприятия тишину:
- Картинка тухлым мясом воняет, - громко произнесла она, круто повернулась на своих неимоверно тяжелых каблуках и ринулась к выходу, шурша черными многоярусными одеждами… За ней потянулись остальные, пропирсингованные во всех анатомически интересных местах, товарищи, одетые в столь милый их душам цвет смерти.
- Дорогой, - сразу же раздался грудной, с придыханием голос Наргисс, ангелицы- вдохновительницы искрящегося, щебечущего, потекающего дорогим парфюмом и сплетнями околохудожественного сообщества, - а не с этой ли готочки вы писали Вашу божественную графиню?
Лизон, славившаяся абсолютным слухом, притормозила свой полет валькирии по галерейному залу и оглянулась. Рядом с Наргисс, одетой в белый корсет, белые полотняные шорты и шикарное длиннополое пальто из идеально выделанной лайки, стоял гений-художник. Вернее, с бокалом шампанского в руках привычно горбился сотни раз оплаканный «готочкой» друг ее Карлуша.
- Нет, мой ангел, - голос карлика был до неприличия пискляв, - не люблю суррогаты. Я писал с натуры…
Иеронимус не успел перехватить Лизон в ее поистине олимпийском прыжке. Издав боевой клич индейцев апачей, пригнувшись, с расчетом попасть головой карлику точно в пупок, она молнией подлетела к остолбеневшей от такой стремительности парочке и… Конечно, промахнулась из-за низкорослости предателя их некогда общих идеалов. Удар пришелся точно по неприкрытой бельевым корсетом части наргиссиного загорелого брюшка. Дамочка ойкнула, согнулась пополам и впечаталась обласканным серой лайкой задом в портрет Батори, краски на котором оказались не готовыми к такому эмоциональному вторжению человеческой плоти.
- На, Бобо, оттопырься! – Иеронимус протянул Лизон косячок. – Последний отдаю, наскреб, можно сказать, по сусекам.
Они сидели на мокрых ступеньках набережной, что напротив Киевского вокзала – Иеронимус, Елизавета и «снежные демоницы» со своим общим другом с темно-бордовой шевелюрой и в очень черном, как сон трубочиста, кожаном плаще… Остальные, после трудного вызволения Лизон из цепких лап охранников Картинной галереи, растворились в сумерках, намереваясь отпраздновать неожиданную победу над цивилами под звуки наитемнейшей немецкой музыки в любимом клубном подземелье.
-С косяком каждый дурак оттопырится, - резко ответила Елизавета, оттолкнув руку Иеронимуса, который не ждал такой реакции и инстинктивно разжал пальцы. Косячок, описав последнюю в своей недолгой жизни дугу, упал в воду. Демоницы дружно взвизгнули.
- Да невелика потеря, он же свои косяки сушеной петрушкой набивает… А я вот думаю… - по выражению лица девушки было видно, что в мозгу ее действительно происходит мучительный мыслительный процесс, - нет, не думаю, у меня есть План. План Мести этому вонючему мяснику. Нужна натуральная анти-мясницкая Акция!
И Елизавета величественно, по-царски, выпрямилась на фоне башни Киевского вокзала, в легком тумане так похожей на далекий лондонский Биг Бен. Иеронимус осознал, что в этот момент его подруга чувствует себя не какой-нибудь 400-летней самодуркой графинечкой, а настоящей, черт побери, императрицей, мыслящей в масштабах великой Российской империи!
… Часа полтора они тряслись в стареньком «жигуленке» по забытой Богом проселочной дороге, петлявшей по местности как последний пьяный плотник. То слева, то справа, в свете фар на них выскакивали буйные заросли колючих кустов с зелеными шариками-ежиками на концах ветвей… Промелькнул похожий на пограничный полосатый столб с непонятным гербом наверху – герб был точным повторением вконец расплющенного утюгом цыпленка-табака. Елизавета выскочила буквально на полном ходу из машины, чтобы написать красной помадой на белой полосе столба слово «Трансильвания». Пара оставшихся в стороне деревень без единого огонька живо свидетельствовали о начавшемся крушении идеи всеобщей электрофикации. Легендарная лампочка Ильича, похоже, вступала в стадию агонии по воле ненасытных утроб владеющих некогда народным огнем новых богов. Оборванные провода обреченно свисали над заброшенными траншеями для прокладки водопроводных труб.
Наконец в приоткрытые окна «жигуленка» крепко пахнуло навозом – цель придуманной Лизон Акции была близка, хотя, признаться, ехали они наобум.
В огромных длинных, похожих на ангары, сараях шумно дышало, похрюкивало и мычало неспокойное хвостатое население. Никаких сторожей, ни одного одинокого сторожа, ни намека на приспособленное под жилье ответственного за скотину человека. На стенах при дневном свете можно было бы прочитать бодрозовущее: «Увеличим надои! Обрадуем Родину!». А при неверном лунном свете отчетливо проступало лишь «…дуем Родину!». Готы и примкнувший к ним, буквально умирающий от желания гомерически расхохотаться Иеронимус по-партизански крались вдоль затертых временем и грязью колхозных лозунгов. «Снежные демоницы», не успевшие переодеться в более подходящую для подобных вылазок одежду, оставляли на торчавших из стен нечаянных гвоздях клочки белой ваты и белые перышки своего сказочного прикида. Их общий друг подарил неизвестно по какой-то причине присутствующему у самого входа в первый ангар-сарай здоровенному железному крюку приличный кусок рукава своего элегантного черного плаща. Тот же крюк поимел лоскут иеронимусовских джинсов, устроив естественную вентиляцию той части тела, которая располагается пониже спины…
- Несем материальные потери, - громко доложил Иеронимус соучастникам, - уходить буду по-рачьи.
Компания с трудом справилась со здоровенным засовом на дверях сарая и, ойкнув, отступила назад под ударом мощного, ничем не убиваемого запаха скотского хозяйства. Множество коровьих морд, не переставая что-то жевать, с удивлением взирали на нарушителей их ночного покоя.
- Эти медленно пойдут, они долго соображают, - хмыкнула Елизавета, - но дверь закрывать не будем, пускай проветриваются и сами решают, с кем они. Дадим рогатым шанс на последний мятеж.
Во втором сарае, куда они проникли без особого труда, действуя по отработанной схеме и так же оставляя на гвоздях перья «демониц», было веселее. В нем обитали дородные хрюшки и резвые поросята, не успевшие еще догадаться о смертельном свинстве ожидающей их в будущем участи.
Эту скотинку долго не пришлось уговаривать – стоили лишь открыть загоны, как поросята, наскакивая друг на друга и толкаясь, бросились вон. Взрослые же хрюшки, двигались медленнее, подслеповато щурясь, то и дело обмениваясь хриплыми «хрю-хрю». Им, видимо, с трудом верилось в шикарную перспективу свободного ночного выгула (или, бери выше – настоящего побега из свинарника) без скрытого подвоха. Особо недоверчивые видели за таким благодеянием хитроумный план мясных спецслужб – за условным порогом сарая их наверняка ждала какая-нибудь передвижная адская скотобойня.
-Свобода, свиньи, свобода! – кричали девчонки, бегая между резвящимися поросятами, - свобода, хрюшки!
- Бегите, бегите отсюда! – не унималась Елизавета, чья персональная месть вероломному Карлуше переросла уже во вселенскую МСТЮ целому мясокомбинату. – Иеронимус, давай в машину, гони их фарами на фиг!
-И вруби SLAYER!******* – подхватил сообразительный друг демониц,- от SLAYER’а они точно протащатся!
В третьем сарае между тем кто-то неизвестный, большой и сильный, тяжело и упорно колотился в закрытую дверь. Причем делал это молча, без единого звука, по которому можно было бы определить, что же это за упорная скотина такая.
-Может помочь? – стараясь перекричать включенную им музыку, предложил Иеронимус, - пособить живо…
Закончить фразу он не успел – дверь сарая со страшным грохотом рухнула на землю. В образовавшемся проеме стоял красавец-козел.
-Мэ-э-э-э! – победно выдал он, тряхнув бородой. Глаза его, взгляд которых был нацелен на резвящихся «демониц», полыхнули алым пламенем.
-Бафомет! Истинно Бафомет!******** – прокричал общий друг и… перекрестился.
… Рассветало. Они мчались по разбитой дороге к никогда не засыпающему городу, чуя сердцем, что все вблизи распахнутых настежь трех сараев-ангаров пришло в движение: люди, наконец, проснулись,очумели, загалдели, страшно заматерились, увидев в своих огородах вальяжно расхаживающих буренок. Те далеко не ушли, до конца не поверив в то, что этой чудесной ночью приходили освобождать их неизвестные готские партизаны… На велосипеде примчался-таки сторож, проведший ночь со своей милашкой-Наташкой, осознав масштаб развала хозяйства, закручинился, сел на пенек, обхватил гудящую от выпитой накануне паленой водки голову.
Поросята трусцой сыпали по выбоинам и колдобинам в прекрасное далеко. Весело подрагивали лихо закрученные хвостики и влажные пятачки. За недолгое время своей свободы – пока не отловили их по одному – свинячьи дети научились улыбаться.
А Козел, говорят, дошел до самого Арбата.
Сутки спустя после операции, получившей у Иеронимуса кодовое название «Бафомет», во дворе дома, помнившего гитлеровские бомбежки и сталинские Первомаи, Лизон совершала первый в жизни Ритуал Сожжения Поруганных Святынь… Сложила аккуратной кучкой свои длинные и короткие черные бархатные юбки, красно-черные корсеты, декольтированные платья с крыльями летучих мышей на спине, сапоги с бесконечной шнуровкой, торбы и сумки-гробики… Торжественно облила все бензином.
- Махмуд, поджигай!********* – мрачно бросила она Иеронимусу, собравшемуся было затянуть по такому трагическому случаю что-нибудь из репертуара Sisters of Mercy. **********. Только а капелла.
-Может, не надо? Может, лучше отдать в пользу детей-готов или сирот-готов? – жечь такую красоту у него не поднималась рука. Да и не в красоте было дело – в Иеронимусе вдруг проснулась так называемая жаба, стиснула горло мозолистой лапой - и ну душить! Столько денег вбухать в эти готские шмотки и пустить все прахом из-за какого-то карлика с комплексом Великана Неумехи! И потом – ну, вляпалась в такую дурацкую историю, не выдержала испытание на вшивость, посланное тебе Штаб-квартирой Черной аристократии, так отдай униформу другому, кто все понял бы, выстоял и на все сто процентов принял бы в себя истинно готский дух!
-Поджигай, марсианин, от этих тряпок несет гнилым мясцом!
…Горело красиво. Умирало живописно. Особенно мышиные крылышки. Дольше всех сопротивлялись огню сапоги. Лизон тихо плакала, сидя у костра на детском пластмассовом стульчике, одетая в розовое воздушное платье для бальных танцев, которое ей принес из дома Кондратьич… Сам же папаня пристроился под древней липой, некогда раненной топориком мясника, на месте царя Петра Алексеевича Первого, и пил пиво. Участковый был в отпуске и мог позволить себе расслабиться.
Иеронимус негромко бил по дну старой кастрюли и пел о Лизкиной печали, но по-иностранному… Получалось красиво, хотя и не понятно.
… Итак, за дверью никого не было. Протянуло пару раз сквозняком – в подъезд кто-то вошел, из подъезда кто-то вышел. Затем закопошились тремя этажами выше, громыхнул лифт, хлопнула дверь. Вскрикнула женщина, смачно ругнулся мужчина и тяжело потопал вниз…
И вот перед вышедшим на площадку Иеронимусом стоял сэр Мымыкин, известный композитор, автор целой кучи поп-хитов, пьяный и разъяренный. «Ну почему же не сэр Пол МакКартни?!» - пронеслась в голове Иеронимуса шальная мысль. Глаза Мымыкина каким-то странным образом серебрились, что случалось каждый раз, когда он выпивал больше положенного организмом. Зрачки неизменно сужались до размеров крохотной точки, а радужная оболочка и глазное яблоко наполнялись лунным свечением. Неоднократно наблюдая за странными процессами хитрого остекленения, Иеронимус втайне считал Мымыкина ловко маскирующимся под музыканта оборотнем.
- А, Босх, - композитор шумно вдохнул горячий воздух подъезда. - Проинтуичил чего? Или покурить?
- Вроде, в дверь кто-то минуту назад позвонил. Смотрим, а за дверью никого…
Мымыкин помолчал, сплюнул на коврик и выдал на одном дыхании, поеживаясь, будто бы от холода:
- Ага, Босх, это дух Серого тебе в дверь трезвонил, прощаться приходил… Он все-таки сделал ЭТО, сделал. Я же подписку за него давал в психушке. Ты мне еще говорил, что зря, что тот, кто делает ЭТО несколько раз, не остановится, пока своего не добьется. Я тебя тогда еще на хер послал, да, Босх?
Иеронимус кивнул – послал его тогда Мымыкин мощно, с вывертом, с художественной выдумкой, в присутствии всей честной компании. Теперь выходит, что Иеронимус был прав и посылать его за Мобуку не было никакой необходимости…
… Серый жил на последнем этаже, у самого неба, как любил говорить он сам. Поначалу был местным дворником, но так как принадлежал к лучшим представителям поколения не только дворников, но и сторожей, скоро начал выдавать на-гора стихи… Складные, однако чрезвычайно наивные, почему-то про тамплиеров. Кому нужны были байки о рыцарях красного креста и исчезнувших в британских туманах сокровищах, когда у нас то Ленин на броневике, то Ельцин на танке, то танки на народ, то народ под танки, то бронетранспортеры на Верховный Совет, то генный сбой в мировой правящей элите – и ни одного вождя, статью или ростом напоминающего некогда блиставших де Голля *, Гамаль Абдель Насера**, Фиделя Кастро***… Ельцин, может, телом-то соответствовал лучшим генно-инженерным стандартам, но почему-то падал с моста в речку, как Буратино, а золотого ключика так и не нашел, с Тортиллой не подружился, не вовремя дирижировал совсем не теми, кем надо было бы дирижировать, и голову свою красиво причесанную, на рельсы в страшный час кризиса, как обещал, не положил. Обманул доверчивых дорогих россиян. И жрать почти все время нечего. Или жратвы завались, но не для всех. Вот и думайте - до тамплиеров ли России?!
…Первый нечаянно сочиненный песенный текст Серый продал с концами за банку соленых огурцов какому-то мутному тенорку в кафе «Метелица» на Новом Арбате. Уж больно есть хотелось. Тенорок поставил свою фамилию и под текстом, и под музыкой, купленной несколько дороже – за бутылку португальского портвейна и португальские же сардины, и стал любимцем простых граждан бывшего Советского Союза, занятых по ночам прозаическим перепихоном, но в душе жаждущих романтической любви. Чтоб как в книжках: или принц на белом коне с законным предложением штампа в паспорте, или принцесса Краса-Некрашены волоса, прокладывающая крепкой грудью дорогу к семейному замку, чтоб вместе над заначенным златом ворковать и чахнуть.
Сколько Серый ни сочинял – а после первого опыта с банкой огурцов его как прорвало – на жизнь катастрофически не хватало. Во-первых, ушлые музыканты умудрялись текстотворца своего обманывать и обсчитывать, ссылаясь на трудные времена. Во-вторых, женщины Серого всегда были роскошны и требовали от него поддержания этой пошлой роскоши, хотя долго в однокомнатной квартирке под носом у господа Бога не задерживались. Словно трудовое красное знамя, переходили они от Серого к более удачливым композиторам, а далее – с краткосрочными остановками - в объятия музыкантов аккомпанирующих составов не только Москвы и Московской области, но и Неметчины и даже Американщины.
Последняя роскошная блондинка, назвавшаяся при знакомстве многообещающим именем Роксана, задержалась у Серого ровно на 9 месяцев, величая светящегося счастьем от видимости настоящей супружеской жизни поэта «Мой Саша Македонский». «Македонский», но отнюдь не Саша, в роксановскую эпоху шеголял в ярко-красных дырявых носках, коротковатых брюках в нэпоманскую полоску и необъятной майке с черно-серым ликом певца английской романтики Стинга на груди. Еще никогда ему так легко не сочинялось – тамлиеры, госпитальеры, масоны всех мастей, включая Якова Брюса из Сухаревской башни, были увековечены, наконец, в поэмах. Песни на его вполне человеческие, не позорные стихи, звучали на всех уважаемых населением радиостанциях. Сереброокий Мымыкин, кровожадно присосавшийся к поэту, не подпускал к нему своих конкурентов на пушечный выстрел, греб деньги лопатой, отстегивая от щедрот своих кое-что Серому…
- Если ему много бабла дашь, - откровенничал Мымыкин с Иеронимусом, которого искренне полюбил за необычайное имя и непреходящую любовь к артефактной группе Пинк Флойд, - он все пропьет или бабам своим отдаст. Я за его квартиру плачу? Плачу. Жратву покупаю? Покупаю. Серый на полном пансионе. Даже синтезатор ему притащил, чтоб стишата свои пропевал…
- Мымыкин, - начинал свою тираду Иеронимус и мысленно втыкал Мымыкину в петлицу желтую орхидею как отличительный знак измены и подлости. С годами он научился четко отделять уникальное творчество музыкантов от их личной гнилости. - Ты ведь унижаешь поэта, клевого чувака к нулю сводишь. Пользуешься тем, что он не боец. Ты же вор, Мымыкин, натуральный ворюга и проходимец.
- А у нас вся страна такая, проходимистая, - предполагаемый оборотень ничуть не обижался на слова Иеронимуса. - Заметь, здесь все друг друга унижают. Вершки унижают корешки, гондонами обозвать на весь мир могут запросто или бандерлогами, а униженные корешки унижают подкорешки. Рисуй дальше схему ступенчатую… Только не надо мне про величие России, про ее особую миссию и наш непобедимый дух, мы ж не лохи с тобой, чтоб лапшу друг другу на уши вешать. Что было, то сплыло. Вырожденцы мы, Иеронимус, вы-рож-ден-цы. Родители наши последними нормальными людьми были. А нас голыми руками можно брать, ни совести, ни чести, зато дворяне резиновые попадаются… Зубов нет, шипов-то нет, одни рога остались. «Рога?» Класс!
И Мымыкин, на всякий случай ощупывая лысеющую голову, принимался хохотать, довольный своей шуткой.
Блондинка Роксана исчезла осенью, родив и оставив Серому сына, маленького хилого человечка с большой белобрысой головой. В том, что молчаливое, страдающее желудочными коликами существо было сыном именно поэта, можно было бы, конечно, усомниться, если бы не левое ухо малыша. Оно оттопыривалость точно так же, как левое ухо Серого.
Дивная оттопыренность ушей считалась отличительным знаком семейства Серого, особой приметой, фирменным знаком рода, некогда раскланивающегося на Невском проспекте с самим Федором Михайловичем Достоевским.
У младенцев мужского пола обычно оттопыривалось левое ушко, женского – правое. Последнее время правооттопыренных становилось все больше, количество левооттопыренных резко сокращалось. Судя по всему, брошенный Роксаной младенец мог оказаться последним представителем семейства.
Ибо к началу нового тысячелетия предпоследний представитель в лице поэта Серого элементарно устал. Устал жить. И у самого синего неба. И за пазухой у Мымыкина. И в маете бессонных ночей, когда десяток мышей маршировали к пустому холодильнику, чтобы там торжественно повеситься, а капризная Муза выкручивала в прихожей последнюю лампочку для создания интима и вдохновения. Устал от бесконечной череды посиделок в компании непризнанных гениев, которых все прибывало и прибывало. Иногда он представлял себе это воинство в виде огромного скопления людей с удивительно похожими друг на друга чумазыми лицами и в белых хитонах. Как правило, большие пальцы на уставших, прошедших аж по далеким снегам Килиманджаро, ногах отличались корявостью и недоразвитостью. Желтоватые ногти по-птичьи загибались, становясь подобием когтей и мешая передвижению по земле. Белое воинство обычно колыхалось, исходя непонятным человеческим волнением, опоясывало земной шар по экватору босоногой белой лентой. Временами Серый придумывал так, что этот белый пояс начинал сжиматься, выталкивал одно звено за другим, и земной шар переставал быть шаром – получались этакие песочные часы, в которых песок Африки неминуемо посыплется на головы обитающих на Южном Полюсе пингвинов.
Серый переставал понимать окружающих: казалось, новый дивный мир разговаривал с ним на непереводимом тарабарском языке. Он пытался объясняться жестами – руки наталкивались на невидимую, очень прочную стену… Через какое-то время Серый уже не мог различать доносившиеся из-за этой стены звуки. Те, кто находились по ту сторону, беззвучно разевали рты, беззвучно смеялись, корчили Серому рожи и… танцевали. Но музыки он не слышал… А если бы и услышал, то не понял бы, что это – музыка.
Усталость окончательно прижала Серого к асфальту после стремительного исчезновения красавицы Роксаны – что делать с оставленной на его попечение собственной копией, он решительно не знал. Копия пищала, требовала кормежки, синела от холода, пачкала памперсы, разрушала сомнительными ароматами и воплями все рифмы и идеи. Занервничал и Мымыкин, планы которого по созданию нетленок резко пошатнулись… Подкралась мысль: сдать копию Серого в приют и навсегда забыть ее там, среди таких же никому не нужных винтиков и кирпичиков колченогого общества.
- Не отдам я его, - неожиданно для самого себя пробасил Серый, уловив пораженческое настроение композитора, - моя ведь частица, плоть от плоти. Сыном полка будет.
Количество заботящихся о новом левооттопыренном до полка явно не дотягивало – имелись в наличии пара временно холостых музыкантов, да Иеронимус с Лизон, которая впала в небывалую ажиотацию из-за подключения к кампании вынужденного материнства, повязала голову цветастым платочком, ввела в обиход устаревшие подгузники и по выходным привлекала к прогулкам с коляской участкового Кондратьича.
Тем временем Серый, из последних сил превозмогая усталость, упал в глубины Интернета и принялся засевать поле сетевого стихосложения своими произведениями, которые для нового поколения чаще всего казались обычным набором слов, лишенных какого-либо смысла. Не понимая, что его ловко и азартно завлекают в петлю, он, как мог, сопротивлялся потоку глумливых комментариев и хамских замечаний, пытаясь объяснить паясничающим анонимам необъяснимое – поэзию.
- Да пойми ты, чучело, - говорил ему Иеронимус, гладя утюгом выстиранные Лизон подгузники копии Серого, - только дуракам и полным идиотам растолковывают смысл написанного. Кто не просекает, тот сам отвалится… Это еще Боб Дилан сказал.
- Какой Боб Дилан? Что им Боб Дилан? – Серый остервенело рвал исписанные ночью карандашом страницы. – Да они и Боба Дилана с говном смешают, уже только за то, что он Боб какой-то…
- Но от нашего доморощенного говна Дилан не превратится в прыщавого Васю Пупкина. Не обращай внимания на кретинов, делай свое дело, здоровее будешь… Вот, Колчак Блока хотел повесить на пару с Горьким, того же Блока Маяковский называл мертвецом при жизни - и что? Да всех поэтов-писателей всегда травили. Нормально это, Серый, учись у Прилепина – он таких троллей в гробу видал… А ведь мог бы по стенам размазать, с него станется.
Серый Прилепина не читал, хотя фамилию слышал, Боба Дилана-Циммермана не слушал никогда, Маяковского органически не переваривал. Как, впрочем, и Максима Горького. Оставался один Блок, но он один ничего для Серого не решал.
Когда именно Серый решил в первый раз отключиться от этой жизни, сыграть роль уходящего в небытие буддистского монаха, трудно сказать…
Тогда он долго ехал на электричке, потом медленно шел к реке, не скованной городским гранитом, по пути поднимая с дороги и пряча в карман камни. В одном английском романе он читал, как сводила счеты с реальностью одна свихнувшаяся от разочарований аристократка. И пальто у дамы было тоже черное, и карманов было много, и камни попадались увесистые… Только замешано в ее самоубийстве было море, а не пытающаяся из последних сил казаться полноводной речушка. Конечно, можно сигануть с моста прямо в центре Москвы. Но тогда исчез бы этот момент тишины, тайны. Сразу сбежится народ, припрется какой-нибудь психолог. Нет, уходить надо так, как заканчивается музыка, – на затихании… Раствориться в прямом и переносном смысле.
Вода обожгла холодом, ноги онемели, судорогой свело руки, затылок вдруг налился свинцом. Несколько шагов вглубь дались Серому с таким трудом, что он чуть не закричал от отчаяния. Полы пальто намокли, каждый ботинок теперь весил килограммов сто. Вдалеке прогудел поезд, залаяла собака… Еще три шага. Вода не дошла даже до пояса, как мимо пытавшегося погрузиться в нее поэта медленно проплыл дохлый кабан с задранными кверху всеми четырьмя ногами. С необычной легкостью, с каким-то радостным облегчением от осознания неудачи Серый бросился обратно к берегу, выбрасывая из карманов пальто камни… Представил себя таким же бездыханным кабанчиком, только на дне и долго отплевывал на берегу горькую слюну… Река еще несколько раз качнула перед ним на волнах кабанью тушу и понесла дальше. Может, к морю, может, к океану, может, в царство славного Салтана…
Два или три раза Серый пытался вскрыть себе вены, друзья вовремя его находили, врывались в квартиру, откачивали сами или вызывали «скорую»… После очередной попытки свести счеты с жизнью, заглянув за запретную черту и увидев там нечто, он творил поэтические чудеса. Мымыкин довольно урчал, прикидывая сказочную прибыль от продажи их совместных песен поп-звездам и звездулькам. Или, как говорил в минуты откровения сам композитор – звездным пОпам. И пусть злостные анонимы исходят завистью и гноем!
Под Новый год появилась Роксана - на черном «Лексусе» самого страшного конкурента Мымыкина. Она погрузила в машину все, что могла вынести из квартиры Серого, включая чертов компьютер. А в конце операции по захвату поэтической собственности вырвала из рук оторопевшей Лизон заметно прибавившего в весе «сына полка»….
- …Захожу к нему сегодня, а он уже того. - Мымыкин развел руками, меряя шагами лестничную клетку и спотыкаясь о выбитый из пола кусок плитки. - Вчера с ребятами, вроде, пили, а сегодня - вот… Записку оставил, что устал жить, что чужой он в этой жизни, не понимает ничего, надоело все и просвета не видит. И стихи свои ненавидит…
Никто из певших его песни «звезд» проститься с Серым не приехал, хотя ждали до последнего. В маленьком автобусе сидело человек семь, не больше. Время тянулось медленно, тяжелые капли дождя бомбардировали город, ветер привычно рвался снести рекламные щиты. На душе было тоскливо – в том, что случилось, Иеронимус винил себя. Ведь знал же, чем дело закончится, предупреждал об этом Мымыкина. Но расслабился, сбитый с толку веселостью Серого. Тот в свой последний вечер забрался на кухонный стол и в полный голос запел их любимую песню о безумном бриллианте****.Да-да, потом они еще обсуждали, что любой из нас по-своему безумен, любой из нас по-своему бриллиант… Самым интригующим было то, что Иеронимус, через пару часов спустившись к себе, не просто заснул – рухнул в сон, будто его на время исключили из окружающего мира и продержали в пропасти до следующего утра, когда все и случилось. Там, в квартире у самого неба.
…В автобус заглядывали какие-то посторонние люди, мимо деловито пробегали крематорские псы. Сидевшие у гроба тихо переговаривались – словно боялись разбудить лежавшего внутри тяжелого полированного ящика. У Серого в жизни не было такого дорогого, красивого жилья… Незнакомая Иеронимусу девушка тихонько всхлипывала, жаловалась, что в Сети до сих пор ни слова, ни строчечки об этой смерти, все воды в рот набрали, хотя кое-что уже было известно…
Прощание по цветовой гамме походило на кадры из старого итальянского фильма. Под звучание заученных казенных фраз распорядительницы Иеронимус вглядывался в удивительно умиротворенное лицо Серого – черты лица друга почему-то расплывались, затягивались дымкой… Непокорное чуть оттопыренное левое ухо, седые волосы ежиком. Серый рано поседел… https://venus-escort.ch
…Неожиданно ухнул филин, профессионально создавший себя из абсолютного Ничего. Звук был такой, словно некто, охрипший от долгой ангины, от всей измученной антибиотиками души (или же, попросту говоря, сдуру) гаркнул в пустую железную бочку. А может, в замшелый деревенский колодец. Эхо, встрепенувшееся от получившегося колебания воздуха, старательно принялось множить ядреный звук, потащило, понесло его вдоль серых стен знакомых пятиэтажек, старательно впихивая в невидимые обычному человеческому глазу пространственные завихрения. Где-то, за пределами нашего с тобой понимания, глубоко вдохнул и выдохнул томившийся в кастрюльке дольше положенного аппетитнейший бабушкин гороховый суп; где-то звякнул замолчавший было на веки вечные станционный медный колокол, и старенький паровоз потянул по давно заросшим гигантскими желтыми цветами рельсам вагончики, груженые воспоминаниями о восхитительном шуршании листьев сахарного тростника; где-то, в N-м по счету параллельном мире князь Владимир отсек с утра пораньше мудрые головы гонцов-послов-соглядатаев, отверг подсмотренную в роскошной Византии идею православия и решил к полудню обратить Русь в католицизм, а через часа три - и того пуще: в иудаизм со всеми далеко идущими для истории мира последствиями; где-то, под толстым слоем степной пыли, прядал ушами призрачный Тамерланов конь, а сам великий полководец приоткрыл свои азиатские очи, прислушиваясь – не пора ли восстать из мертвенной лени, воззвать к своим бесстрашным воинам и в очередной раз показать зажравшимся цивилизацией белым людям отменную шайтанову мать по-азиатски.
Временные параллели противозаконно схлестнулись, переплелись десятком морских узлов в сознании Иеронимуса, опечаленного смертью приятеля. Окружающее его серое мартовское пространство исказилось до неузнаваемости. И, как говаривал некогда теперь уже покойный Серый, начался несанкционированный фантазийный трип…
…Обычные стены, несколько осев в бедную городскую почву, воспряли тяжелым зеленым мрамором с желтыми прожилками, оттопырились балконами с дивными чугунными решетками в виде виноградных лоз. На балконах теснились хлипкие барышни тургеневского облика и мощные матроны а ля маэстро Рубенс***** – все они рыдали на разные голоса и остервенело пилили тонкие и тонкие запястья кто чем придется. Мелькали плохо наточенные кухонные ножи, осколки фарфоровых блюдец Ленинградского Императорского завода, бесхитростные в своей остроте лезвия опасных бритв. Капли крови то и дело шлепали на бугристую мостовую и тут же высыхали черными пятнами под лучами пробившегося сквозь занавес черных туч лихорадочного солнца.
По вновь образовавшейся улице некрасивые карлики с растрепанными седыми волосами, в давно не стираных черных балахонах тащили огромные носилки с забальзамированным телом Серого. Проходя мимо остолбеневшего от изумления Иеронимуса, старшина карликов недовольно прогундосил: «Звали мы его, звали громким голосом. Не откликается. Мертв. Безнадежно мертв». И, долю секунды подумав, вспомнив о своем происхождении, карлик добавил: «Сэр!».
Среди публики, набежавшей поглазеть на странную похоронную процессию, особенно живописно выглядели огненно-рыжие баньши. Они выли по-волчьи, тонкими бледными пальцами пытались разорвать в клочья серые плащи, сшитые из не известной простому смертному и ничем не сокрушаемой материи, плакали, имитируя крики новорожденных младенцев. Одна баньша то и дело прерывала свои вопли, похожие на крик откормленной к Рождеству гусыни, странной фразой. Причем произносила ее совершенно обычным, будничным тоном, без какого-либо намека на трагизм: «С моста бы в реку, с моста бы в реку…».
Неверный свет доброго десятка отчаянно коптивших факелов, которые сжимали в лапах идущие рядом с карликами дрессированные медведи, освещал венок из дубовых листьев, украшавший голову Серого. Румяна, нанесенные безымянным гримером на впалые щеки умершего, начали подтаивать и грозили стечь алыми ручейками на шелковое покрывало. В самых потаенных глубинах памяти Иеронимуса шевельнулось хилое институтское знание о приблизительном составе таких румян. «Судя по всему, бычьего навоза пожалели или крокодильих экскрементов», - такая вот некрасивая, кощунственная по отношению к приятелю, мысль последовала за осторожным шевелением памяти.
За медведями шли, приплясывая, полупьяные сатиры, били в тамтамы, трещали деревянными трещотками, орали дурными голосами:
Погиб поэт, невольник чести,
И ни стихов теперь, ни песен,
И ни жены, и ни невесты,
Эх, бубны, черви, пики, крести!
Чуть в стороне от сатиров, явно стыдясь своей причастности к погребальному скоморошеству, шел двойник Серого. Волосы седоватым ежиком, черные круги под глазами, прикушенная нижняя губа. Даже левое ухо у него оттопыривалось с полным соблюдением анатомических особенностей вымирающего рода. На спине у двойника на всякий случай, в расчете на тех, кто не был знаком с умершим, болталась в такт шагам небольшая табличка «Почивший».
Процессию замыкал сбежавший с колокольни, где он должен был находиться по вековому мифическому статусу, церковный грим******. По его истерзанному виду, по исцарапанной чьими-то острыми когтями морде Иеронимус понял – не лететь душе Серого в райские кущи бить баклуши. Дорога ушедшего по собственной воле из жизни лежала прямиком в адскую кочегарку… И, как бы в подтверждение этой догадки конец привидевшейся Иеронимусу улицы, мощно, безапелляционно полыхнул жарким пламенем. Во внезапно образовавшемся пекле исчезли носилки с покойником. Карлики, цирковые медведи, баньши, сатиры, двойник-архимим с треском лопались, словно детские воздушные шарики.
Уходили, вернее, оплывали, в землю мраморные узорчатые стены, рассыпались в прах охранявшие входы грифоны, таяли в горячем воздухе тургеневские барышни и матроны, так и не допилившие свои несчастные вены…
- Кончено! – тихо произнесла Лизон экс-Батори за спиной Иеронимуса, возвращая того из фантазийного трипа в мрачный ритуальный зал. Бесцветная служительница, нисколечко не похожая на огненно-рыжую баньшу, тщилась прицепить на торчавший из крышки гроба гвоздь бумажку с фамилией Серого. Но вот дрогнула конвейерная лента, и деревянный ящик, заполненный мертвыми рифмами и уже никому не ведомыми страданиями, двинулся к жадно распахнувшимся дверцам придуманной людьми преисподней. Лизон всхлипнула. Может, для порядка, может, действительно горюя…Безымянный гитарист беззвучно выругался, вложив в свой матерный реквием всю ненависть к жестокой и неминуемой человеческой разлучнице.
Оставалось всего пара сантиметров до полного исчезновения Серого по ту сторону задверного пространства, как в кармане Иеронимуса тихо звякнул мобильник – кто-то прислал эсэмэску…
…Он прочитал ее уже в метро, прижатый двумя потенциальными воинами Тамерлана к двери с надписью «Не прислоняться».
«Все было именно так, как ты видел. – Буквы на экранчике телефона, ошарашивая, полыхнули алым. - А грифоны откладывают яйца из агата. Спасибо, друг. Серый».
«Я живу со скоростью фантазии, ты живешь со скоростью разума. У меня ничего нет, но я богат и счастлив. У тебя есть все, но ты нищ и несчастлив», - жаль, что так когда-то сказал не Иеронимус, а Серый.
Ссылки даются на всякий случай. Чтобы облегчить прочтение «Оттопыренности» людям плохо знакомым с рок-музыкой, мировой историей и т.д. Когда сочиняешь что-либо, не думаешь, что кто-то может не знать интересующих тебя тем. Беру пример с писателя Йена Бэнкса, обильно начиняющего свои произведении названиями рок-групп и отсылками к песням.
*Елизавета (Эржебет) Батори - или Кровавая Графиня, убившая 650 девушек, пытавшаяся обрести бессмертие за счет уничтожения более юных созданий. Родилась в одном из замков Трансильвании. Известный граф Дракула считается ее дальним родственником. Этот образ пользуется популярностью у литераторов и рок-музыкантов.
** группа Cradle of Filth – английская рок-группа, выпустившая альбом «Cruelty and The Beast», посвященный графине Батори. Тяжелая музыка, насыщенная лирика песен.
*** батори – единица жестокости, придуманная Иеронимусом.
**** Несколько видоизмененные строки из «Арии Батори» (альбом «Cruelty and The Beast”).
***** «Stalingrad» - песня группы Accept с альбома “Stalingrad” (2012)
******Free my ass! (англ.) – Свободу моей заднице!
******* Slayer- американская метал-группа, созданная в 1981 году, одна из самых великих «тяжелых» команд. Имеет интересную историю во всех аспектах, включая идеологические.
******** « Бафомет! Истинно Бафомет!» – гот решил, что перед ним сам Дьявол.
Вообще-то Бафомет (получеловек-полукозел) – фигура загадочная. Бафомета так же называют Козлом Мендеса, Черным Козлом или Козлом Иуды. Самое известное изображение создано французским оккультистом Элифасом Леви. Если посмотреть на большую часть рисунков Б., увидим двуполое существо с рогами, со змеями в волосах, с цепями и крестом в руке, окруженное символическими фигурами в виде солнца, луны, черепа и т.д. («Mines de L’Orient» барона Гаммер-Пургстльена). Церковники толкуют это слово как символ Дьявола после появления организации под названием «Церковь Сатаны» (см. Шандор ЛаВэй), которая приняла слово «Бафомет» в качестве своего символа. Многие связывают Бафомета с орденом тамплиеров, поклонение голове Бафомета вменялось храмовникам в вину церковью. Короче, историй о Бафомете множество.
********* «Махмуд, поджигай!» - фраза из культового советского кинофильма «Белое солнце пустыни».
********** Sisters of Mercy - британская группа. Главный человек в группе Эндрью Элдрич. Считаются (хотя Эндрью это отрицает) коллективом, оказавшим сильное влияние на становление готик-рока.
*Гамаль Абдель Насер (Джамаль Абд ан-Насир) (1918-70) – президент Египта с 1956 года. По профессии – военный. Основатель и руководитель организации «Свободыне офицеры», осуществившей революционный переворот 23 июля 1952 года. Провел крупные преобразования во всех областях жизни Египта. Точных данных о его росте обнаружить в Инете не удалось. Но был он мужчиной довольно высокий, крепчайшего телосложения. Впервые проявился в моем сознании благодаря прочтению книги английского писателя Джеймса Олриджа «Последний изгнанник».
** Шарль де Голль (1890-1970) – президент Франции в 1958-69 гг. В 1940 г. организовал в Лондоне патриотическое движение «Свободная Франция», примкнувшее к антигитлеровской коалиции. В 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета, в 1943 г. – Французского комитета национального освобождения в Алжире. После войны основал и руководил партией «Объединение французского народа». Харизматичная, несгибаемая личность, отстаивал политическую независимость страны, вывел Францию из НАТО.
Рост – 1.96 м
*** Фидель Алехадро Кастро Рус (1926 - ) – вождь кубинской революции. Его биографию можно читать, как приключенческий роман…Лауреат Международной Ленинской премии, Герой Советского Союза. Награжден североамериканскими индейцами «Орлиным пером»,
высшей наградой коренных жителей США. Его можно любить или ненавидеть, но великим и уникальным Фиделя признают все.
«Фидель – это сила природы» - сказал писатель Габриэль Гарсиа Маркес.
Рост – 1.90 см
**** Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – глава фламандской школы живописи эпохи барокко. Наш М. Карамзин назвал Рубенса «фламандским Рафаэлем». Женщины на полотнах художника словно «созданы из молока и крови». Говоря проще – очень аппетитны!
***** … «песня о безумном бриллианте» - речь идет о песне « Shine On You Crazy Diamond» группы Пинк Флойд (альбом “Wish You Were Here” 1975 г.), стихи Роджера Уотерса. Песня посвящена Сиду Барретту. Обычно люди, пережившие те времена, любившие музыку тех времен, украдкой или открыто плачут под звуки этой песни, которую по-прежнему исполняют и Уотерс, и Дэвид Гилмор.
****** церковный грим – по средневековым европейским поверьям гримы обитали по всей территории Европы. Чаще всего встречаются на старых кладбищах вблизи церквей. Могут принимать различные обличья, но чаще всего превращаются в больших черных псов с горящими глазами. Любят пугать людей, воют под окнами больных, предвещая их уход из жизни. Могут ночью забраться на колокольню и звонить в колокол. В виде огромного черного пса грима можно наблюдать во время похорон неподалеку от вырытой могилы. И по внешнему виду грима определяется, куда попадет душа умершего: в рай или ад. Бояться грима не стоит, он не причинит вам вреда.
I
За дверью никого не было, хотя Иеронимус отчетливо слышал долгий требовательный звонок. Но - никого и почти ничего. Лишь пустые лестницы с образцовой пылью на покрашенных в коричневый цвет перилах. Рядом с потертым ковриком на ступеньке - банка с окурками, всегдашний атрибут ползучей никотиновой экспансии под долгие разговоры по мобильнику ни о чем.- Глюки. - Лизон Батори с уважением посмотрела на озадаченного Иеронимуса. – Люблю глюканутых…
Лизон была местной, вроде бы из готов. На самом деле ее звали Елизавета, а официальная фамилия по отцу, участковому Кондратьичу, была достаточно цивильная - Гиева, не вызывающая трудностей в произношении ни у нянечек в детском саду, ни у преподавателей начальной школы. В классе, кажется, восьмом, девочка прибавила к фамилии пару слогов – Вальпур, после того как увидела по «ящику» балетную сцену из оперы «Фауст». Козлоногие сатиры, бодро скачущие под музыку Гуно, и прикрытые кисейными лохмотьями симпатичные ведьмочки потрясли воображение будущей готессы. Надставленная фамилия отталкивала громоздкой тяжеловесностью, а для взрослого уха звучала немного комично (что, несомненно, огорчило бы Мефистофеля, знай он об этой истории). Но для подростка с комплексами таинственной многозначительности - в самый раз: Елизавета Вальпургиева. Пусть если не трепещут, то хотя бы задумаются… Те, кто понимает, о чем речь.
Исподволь погружаясь в депрессивную пучину эпохи полового созревания, девушка успела отличиться на подростковых фронтах и как Элизбет Кондретшведская, и Барбело Альбум-Зальцбургская, и - коротко - как Лиза Мунспелл. В окончательном выборе ника (не столько для себя, сколько для тусовки) помогла определиться одиозная графиня Батори* - не без помощи чрезвычайно продвинутой рок-группы Cradle of Filth.**
- Далась тебе эта Батори! – морщился Иеронимус, отправляя в мусорку неумело нарисованные Лизон лохани с хилыми трупиками юных жертв помешанной на идее бессмертия графиней. – У нас одна Салтычиха десяток твоих Баторей стоит!***
- Ты сравни, как звучит: Ба-то-ри и Трындычиха твоя! … Разве может настоящая готка Салтычихой назваться? Позорище. Еще Акулиной или Авдотьей вместо Элизабет меня назови. Болото ты, Иеронимус, непроходимое, та самая трясина, где собака Бо… Боскервилли жила!
- Не Гримпенская трясина я, - миролюбиво отмахивался Иеронимус, отваливая девушке пол-кастрюльки традиционно недоваренных макарон. Предполагаемая готичность облика и образа мыслей никоим образом не влияли на отменный аппетит Лизон. – А собачка та была из рода Баскервилей, учи матчасть, Бобо!
Под ему одному слышные аплодисменты ложек и поварешек молодой человек эффектно окроплял макаронную гору ярко-красным кетчупом – ни дать ни взять кровушка какого-нибудь пенсионера, не желающего разжижать ее прописанным врачом аспирином. Понятно, что делал Иеронимус это для пущего нагнетания готической атмосферы на маленькой совсем не готической кухне, окна которой закрывали веселенькие занавески в оранжевый горошек величиной со старую пятикопеечную монету.
…Елизавета никогда не примеряла скромные одежды Аленушки, приросшей в тоске своей к серому камню у васнецовского пруда, или кокошник-трансформер умницы Василисы Прекрасной. И кружевной ночной чепец молодой дворяночки, обчитавшейся французских романов, был бы с ненавистью ею отвергнут. Лизон жаждала чего-то авантюрного, темного, дышащего опасностью и вседозволенностью для отмеченных печатью Высших существ. По ночам она любила зажигать витые черные свечи и до помутнения в глазах вглядывалась в ровное, окруженное золотистым ореолом, пламя. Иногда ей казалось, что один из лучей вдруг начинал удлиняться, превращаясь в некое подобие тончайшего лезвия – он бесшумно и безболезненно вспарывал темноту комнаты. Но, вопреки ожиданием, за этим ничего сверхъестественного не следовало – в кресле, до которого дотягивался луч-мутант, не появлялась таинственная фигура в черном, и никто не произносил низким колдовским голосом:
- Ах, мое царствование закончилось так быстро, ибо Темные Боги слишком крепко спали, чтобы услышать мои мольбы! ****
У елизаветиного прадедушки на почетном месте, над старым списанном в министерстве кожаным диваном висел портрет тирана и генералиссимуса Иосифа Сталина, у прабабушки над телефонной тумбочкой – засиженный неистребимыми московскими мухами портрет профессора Пирогова. У дедушки с папиной стороны на кухне изо дня в день дряхлел от паров незамысловатой стряпни и запахов щей прикнопленный к посудному шкафчику Юра Гагарин, у бабушки с маминой стороны в спальне красовался портрет несгибаемой мадам Комиссаржевской… Кондратьич под портреты героев знакомых ему эпох отвел весь коридор – со всевидящим Юрием Андроповым соседствовал пламенный Лев Троцкий, с плачущей фигуристкой Ириной Родниной – Никита Хрущев с ботинком в руке. Темное пространство озаряли светом своих разноформатных лиц и Никита Михалков в молодости, и речистый Горбачев с Маргарет Тэтчер, и еще не успевший растолстеть артист Стивен Сигал, и не успевшая дойти до стадии увядания роз Дженис Джоплин…Битлы-Битлы-Роллинги-Роллинги-Гребенщиков-Градский-Битлы- Дип Пепл с Блэкмором – Иван Козловский… Вместо портретов политических звезд сумбурного настоящего Кондратьич вывесил целую галерею изображений плюшевых медвежат в различных позах и кадры из фильма «Властелин колец» с Голумом и размашистой надписью золотым фломастером – «Моя прелесть».
Подобная бытовая многоликость претила Елизавете. Тонкой швейной булавкой с жемчужной головкой она пришпилила над своим изголовьем, где обычно католики вешают распятие, вырезанную из чудом попавшего в руки венгерского журнала картинку с полустертым изображением графини Эржебеты Батори, по преданию родившейся в одном из мрачных замков Трансильвании.
- Она отбеливала волосы шафраном… А я когда-то наверняка была летучей мышью… в Трансильвании. Это такое место, такое место! – Лизон смешно вытягивала губы трубочкой и издавала чмокающий звук. – Я была счастливой летучей мышью!
При этих словах Иеронимус обычно вспоминал увиденный еще во времена расцвета кабельного телевидения фильм, который назывался не то «Заблудившиеся дети», не то «Потерявшиеся дети». Там, в довольно комфортной пещере у калифорнийских, правда, а не трансильванских вампиров, десятки откормленных, глумливых летучих мышей болтались вниз головами рядом с огромным портретом Джима Моррисона, которого упыри, судя по всему, считали своим в доску парнем…
Взяв себе фамилию взбалмошной графини, Елизавета, конечно же, не собиралась раздевать кого-то из своих подруг, обмазывать их медом и оставлять на растерзание пчелам, хотя у еще здравствующего прадедушки, почитавшего тирана Сталина-Джугашвили, была в Подмосковье своя пасека. Да и превращать девчонок в ледяные статуи на морозе не было никакого желания – заложенный с рождения гуманизм и пацифизм все-таки брал верх над искусственностью низменных наклонностей. Но какой кайф – пройтись по Старому Арбату, распугивая смуглых туристов-индусов, отечественных бомжих и попрошаек умопомрачительной компанией, похожей на свиту вошедшей в историю кровопускательницы!
Двух одноклассниц, готовых от скуки и ненависти ко всякого рода кастрированным школьным наукам пройти огонь, воду и медные трубы всех небесных архангелов, неизвестных и известных земных оркестров, не пришлось долго уговаривать. Они нарекли себя «снежными демоницами», соорудили соответствующий гардероб и были готовы стартонуть на Арбат по первому зову Елизаветы. С персонажем, подходящим на роль верного графине шута-горбуна Фицко, дело обстояло посложнее.
Иеронимус в расчет не шел – он был хорош дома, на месте, у своего телескопа, неизменно направленного в сторону красноватого Марса, или на каком-нибудь отвалибашка-концерте: голый по пояс, играющий бицепсами-трицепсами, татуированный и выкривающий что-нибудь яростное и нечленораздельное. Вдобавок после конфуза с собакой Баскервилей, ему нравилось дразнить подругу карамельным прозвищем «Бобо», а самое графиню он считал вымыслом помешанных на бесчинствах черной аристократии графоманов. Или – что тоже не было лишено смысла – Иеронимус в просветительских беседах с Лизон то и дело пытался представить красавицу Батори жертвой гнусных интриг завистников и охочих до чужого злата церковников. В минуты нудного атеистического ликбеза Лизон мрачнела, рисовала на обеих щеках черной краской кресты и, любуясь своим отражением, произносила замогильным голосом:
- Где твоя фантазия, глюкач? Где твоя фантазия? Ты убил ее, подлец…
Живописного типа, подходящего на роль смышленого ассистента в смелых похождениях, Лизон увидела в мясной лавочке на шумном дешевом рынке недалеко от почтенного Преображенского кладбища. Карлик ловко помахивал топориком, лишая конечностей и аппетитных филейных частей новопреставленных поросят, телят и их горемычных родителей. Иеронимус не знал точно, что Елизавета наплела малограмотному мяснику о развлечениях венгерской графини, но тот крепко подсел на Батори-стори. И даже – о, святые грешники! – вскоре сам стал придумывать умопомрачительные байки о делах смертельно скорбных, участником которых он якобы был в своих девяти прошлых жизнях. Фантазия у карлика работала бесперебойно, истории получались ужасающе правдоподобными. Его разделочный топорик упокоился в самодельном футляре-гробике, выполненном мастерущими руками Лизон. Он сопровождал карлика во всех путешествиях с девушкой, включая концерты заезжих и местных рок-групп, оглашающих атмосферу ночной столицы то утробным рычанием, то безумными воплями забывших придти в себя берсерков, то околооперными вокализами по нордически крепких красавиц. Как Елизавете свет-Батори с дружком удавалось обмануть бдительность охранников и проносить чертов гробик с топориком в зал, для Иеронимуса оставалось неразрешимой загадкой.
Вернувшись после очередного концертного шабаша, Лизон смешно изображала, как Карлуша бережно прислонял дорогой ее сердцу футлярчик к барной стойке, заказывал трехлитровую кружку пива, как лениво отмахивался от разгулявшихся тусовщиц, требующих выложить на всеобщее обозрение легендарное орудие забоя скота. Глумливые улыбки и перемигивания не оставляли сомнения в том, что их занимало вовсе не содержимое зловещего сундучка. «Карлуша, а Карлуша? - ворковала изрядно подвыпившая дива в серебристом комбинезоне, подергивая ассистента Лизон за брючный ремень. - А как у нашего Карлуши получаются карлушики?» На что экс-мясник меланхолично и неспешно выливал остатки пива на кудри расшалившейся нахалки и по-бычьи бил головой точно в пупок ее начинавшего свирепеть кавалера.…
Похождения готичной троицы - Карлика, топора и Лизон - решительно пресек участковый Кондратьич, однажды ночью застав мясника за метанием топорика в насаженный на кол кочан капусты. Ну, так что? Собаки давно уже справили свои большие и малые дела во дворе, о детях и говорить не приходится – самые дисциплинированные видели десятый сон, а бесконтрольные лениво переругивались по скайпу с приятелями или под видом подготовки к контрольной по физике резво окучивали порносайты… То есть упражнения мясника с топором представляли реальную угрозу разве что для какого-нибудь загулявшего от горя безработицы технаря или бывшего интеллигентного человека, обреченного бездомностью на долгие бдения под открытым небом.
Разрубленный кочан упал точно к надраенным до зеркального блеска ботинкам Кондратьича. Орудие же вонзилось в ствол доживающей свой век липы, под сенью которой, по легенде, молодой царь Петр Первый щекоткой доводил до визга шалунью Анну Монс. О, какими красноречивыми были выпученные от страха и от понимания того, что произойдет секундами позже, глаза Лизон – папа, милиционер-отличник, шутить не любил и просто не умел.
- Топорик забрал, - хлюпая носом, докладывала часом позже Лизон неохотно оторвавшемуся от созерцания Марса Иеронимусу, - папка Карлушу куда-то увел, и гробик с топори-и-и… И-и-и-и-и, - последний звук некрасиво растянулся, выступая оригинальной увертюрой к бурным рыданиям с иканием и громкими сморканиями.
- Эй, Бобо, возьми, пригодится, - Иеронимус протянул девушке рулон туалетной бумаги. Дальше все было делом деликатного искусства отвлечения от навязчивых мыслей – не позволить ей опять замкнуться на дорогих сердцу потерях, не дать возможности завыть и застенать по-старушечьи. – Я вот никак не могу понять, Бобо, - продолжал он развивать свой успешный маневр, - почему твой с виду старорежимный папаня не пришлет ко мне наряд своих коллег, не обвинит меня в изнасиловании несовершеннолетней дурочки, не объявит растущую на окне петрушку коноплей и не начистит мне морду в участке… А, Бобо?
-Еще раз назовешь меня Бобо, марсианин хренов, - закричала Лизон, метко бросая в лоб Иеронимусу радостно развернувшуюся на лету и почувствовавшую себя китайским бумажным змеем туалетную бумагу, - на самом деле объявлю твою петрушку коноплей! Подожгу твою конуру, прокушу тебе шею, перегрызу яремную вену и…
-Выпьешь всю отравленную твоим же ядом кровь, - закончил за нее Иеронимус и врубил на полную мощь песню «Сталинград» *****, бывшую на этой неделе у них в неоспоримых хитах.
Фокус удался. Лизон захохотала.
- Папка у меня один такой на всю милицию. Он за сексуальную революцию… Похоже, у нас дед был хиппи, настоящий, из Системы, Сис-те-мы. Папка, знаешь, сколько морковного сока выпил в детстве и сколько травки сам нанюхался, пока образцовым ментом не стал по зову измученного вегетарианством сердца?
… Топорик не всплывал ни по одному уголовному делу – ни по связанному с простым убийством, без всяких наворотов, ни с какой-нибудь зверской расчлененкой.. Впрочем, и Карлуша как в воду канул. В мясной лавке о нем ничего узнать не удалось – на расспросы Лизон смуглые хозяева пожимали плечами, цокали языками, страдальчески закатывали глаза под потолок. А потом вообще вычеркнули карлика из летописи разделочно-потребительского цеха и взяли на его место здоровенного, под два метра роста, скуластого парня с синеватой наколкой «Free my ass»****** на волосатой груди .
Теперь при встрече с Иеронимусом участковый Кондратьич лучезарно улыбался, с шиком брал под козырек, иногда складывал пальцы «козой» или «рогулькой». Под дверью квартиры, где жил Иеронимус и частенько появлялась Лизон, неделю спустя после рассечения капустного кочана был обнаружен оплакиваемый дочерью участкового футлярчик-гробик, набитый брошюрами о неизлечимости СПИДа и вьетнамскими презервативами.
Но пришло время, пробил нужный час, и карлик материализовался… На выбор узкого круга посвященной в топорно-готическую историю общественности были представлены две истории о дальнейших похождениях поднаторевшего в сочинении упырских баек Карлуши.
Согласно первой версии, где-то в районе города Дмитрова объявилась некая бабища-богатырша, великанского роста, с мохнатыми брежневскими бровями, одна нога – что полноценный дуб-колдун, а уж две! Зарегистрировалась она как владелица частного хозяйства по выращиванию некрупных нежных огурчиков. Горбатились на богатыршу представители больших и малых народов и народностей, включая застывших в вечном почитании силы китайцев.
Бабища держала работников не то чтобы в черном теле – сказать так, значит малой толики страданий этих безропотных горемык не описать. Гноила их в пропахшем канализацией подвале, кормила какой-то блевотной бурдой, миловаться и плодиться строжайшим образом запрещала… Появлявшиеся вопреки строгому запрету редкие дети через пару дней загадочно исчезали – по слухам, шли на корм свиньям, на стволовые клетки и на донорские органы для бразильских миллиардеров и арабских шейхов. И вроде бы главным бухгалтером у этой жуткой бабищи был карлик, по описанию очевидцев здорово смахивавший на пропавшего Карлушу. Двойник мясника гордо вышагивал по огуречным парникам, облаченный в добротную импортную кожу, поскрипывал штанами и косухой и, если что не так, сразу бил головой провинившегося работника в солнечное сплетение. Мужики, пившие вместе с ним у продуктового магазина, клялись и божились, что после распитой на троих бутылки водки карлик начинал монотонно бубнить одно и то же, не меняя интонации и выражения глубоко посаженных черных глаз-пуговок: «Суррогатов не держим, не держим мы суррогатов, мы настоящую нашли, баторку настоящую…».
ОМОН, направленный по требованию встревоженного населения для восстановления расовой и трудовой справедливости на паре гектаров дмитровской земли, брал нехорошее хозяйство штурмом. Брал, да не взял… Карлуша (если это, конечно, был он), мастерски поставил не только по периметру хозяйства, но и по всему дому растяжки-«чеченки». И, сам на них подорвавшись, прихватил с собой к праотцам с десяток служивых, бровастую бабищу и невинный подневольный интернационал, заточенный в вонючем подвале.
Вторая версия выглядела более гламурно, по-столичному… Примерно через полгода после исчезновения карлика с его топориком, художественная тусовка была потрясена появлением нового, ни кем из знатоков не предсказанного героя. Даже знавшая все наперед разбитная барышня-критикесса Наргисс не произносила судьбоносного пророчества о появлении столь стильного персонажа. Она почивала на лаврах первооткрывательницы моды на ношение подлинных павловских платков поверх белых бельевых корсетов с отстроченными коричневым чашечками. Исключительно для жен олигархов.
На одной из выставок неимоверно талантливый, по мнению ценителей современной живописи, но очень низкорослый художник с уныло свисающими (надо полагать, в пику Сальвадору Дали) буквально до ключиц усами представил написанный в оригинальной манере портрет… той самой графини Батори. Портрет, с общечеловеческой точки зрения, был стопроцентно ужасен. Левый, полуприкрытый, глаз графини художник расположил сантиметра на 4 выше широко открытого правого, скосил его к носу; нос схематично обозначил черной жирной линией. Вместо обычного рта новоявленный гений, видимо, пытался написать яркую розу, колючий стебель которой должен был бы, по дерзкому замыслу, перейти в шею изуверки. Розы не получилось – обильно выдавленный из тюбика на полотно крапп-лак смотрелся вспученным, выплюнутым чахоточником куском кровавой плевры… Однако, не смотря на явные признаки отсутствия элементарного умения рисовать, хаотичность черно-красных и коричнево-серых мазков удивительным образом влияла на зрителей. Наиболее впечатлительные тут же, не отходя от портрета убийцы 650 нежнейших девиц, впадали в стойкую депрессию.
В нижнем правом углу картины бросался в глаза реалистично выписанный топорик, лежащий в гробовидном футляре. На лезвии топора сидела большая бабочка с черной каймой на крыльях. Словно кто-то посторонний, не увлеченный вихрем страстей и обид стареющей Батори, и с отличием окончивший соответствующую Академию художеств самого Ильи Глазунова, в шутку дописал картину. Этот элемент ценителями современной живописи был признан самым неудачным, а с общечеловеческой точки зрения являл собой редкую удачу для безымянного представителя нового искусства.
Слухи о выставленном в галерее «шедевре» неминуемо достигли ушей Лизон. Группа приведенных ею готов-баторианцев простояла у отнюдь не маленького полотна около часа, отпугивая траурным выражением лиц и своим кладбищенским молчанием пижонистых посетителей выставки. Наконец Елизавета нарушила становившуюся уже угрожающей для коммерческой стороны предприятия тишину:
- Картинка тухлым мясом воняет, - громко произнесла она, круто повернулась на своих неимоверно тяжелых каблуках и ринулась к выходу, шурша черными многоярусными одеждами… За ней потянулись остальные, пропирсингованные во всех анатомически интересных местах, товарищи, одетые в столь милый их душам цвет смерти.
- Дорогой, - сразу же раздался грудной, с придыханием голос Наргисс, ангелицы- вдохновительницы искрящегося, щебечущего, потекающего дорогим парфюмом и сплетнями околохудожественного сообщества, - а не с этой ли готочки вы писали Вашу божественную графиню?
Лизон, славившаяся абсолютным слухом, притормозила свой полет валькирии по галерейному залу и оглянулась. Рядом с Наргисс, одетой в белый корсет, белые полотняные шорты и шикарное длиннополое пальто из идеально выделанной лайки, стоял гений-художник. Вернее, с бокалом шампанского в руках привычно горбился сотни раз оплаканный «готочкой» друг ее Карлуша.
- Нет, мой ангел, - голос карлика был до неприличия пискляв, - не люблю суррогаты. Я писал с натуры…
Иеронимус не успел перехватить Лизон в ее поистине олимпийском прыжке. Издав боевой клич индейцев апачей, пригнувшись, с расчетом попасть головой карлику точно в пупок, она молнией подлетела к остолбеневшей от такой стремительности парочке и… Конечно, промахнулась из-за низкорослости предателя их некогда общих идеалов. Удар пришелся точно по неприкрытой бельевым корсетом части наргиссиного загорелого брюшка. Дамочка ойкнула, согнулась пополам и впечаталась обласканным серой лайкой задом в портрет Батори, краски на котором оказались не готовыми к такому эмоциональному вторжению человеческой плоти.
- На, Бобо, оттопырься! – Иеронимус протянул Лизон косячок. – Последний отдаю, наскреб, можно сказать, по сусекам.
Они сидели на мокрых ступеньках набережной, что напротив Киевского вокзала – Иеронимус, Елизавета и «снежные демоницы» со своим общим другом с темно-бордовой шевелюрой и в очень черном, как сон трубочиста, кожаном плаще… Остальные, после трудного вызволения Лизон из цепких лап охранников Картинной галереи, растворились в сумерках, намереваясь отпраздновать неожиданную победу над цивилами под звуки наитемнейшей немецкой музыки в любимом клубном подземелье.
-С косяком каждый дурак оттопырится, - резко ответила Елизавета, оттолкнув руку Иеронимуса, который не ждал такой реакции и инстинктивно разжал пальцы. Косячок, описав последнюю в своей недолгой жизни дугу, упал в воду. Демоницы дружно взвизгнули.
- Да невелика потеря, он же свои косяки сушеной петрушкой набивает… А я вот думаю… - по выражению лица девушки было видно, что в мозгу ее действительно происходит мучительный мыслительный процесс, - нет, не думаю, у меня есть План. План Мести этому вонючему мяснику. Нужна натуральная анти-мясницкая Акция!
И Елизавета величественно, по-царски, выпрямилась на фоне башни Киевского вокзала, в легком тумане так похожей на далекий лондонский Биг Бен. Иеронимус осознал, что в этот момент его подруга чувствует себя не какой-нибудь 400-летней самодуркой графинечкой, а настоящей, черт побери, императрицей, мыслящей в масштабах великой Российской империи!
… Часа полтора они тряслись в стареньком «жигуленке» по забытой Богом проселочной дороге, петлявшей по местности как последний пьяный плотник. То слева, то справа, в свете фар на них выскакивали буйные заросли колючих кустов с зелеными шариками-ежиками на концах ветвей… Промелькнул похожий на пограничный полосатый столб с непонятным гербом наверху – герб был точным повторением вконец расплющенного утюгом цыпленка-табака. Елизавета выскочила буквально на полном ходу из машины, чтобы написать красной помадой на белой полосе столба слово «Трансильвания». Пара оставшихся в стороне деревень без единого огонька живо свидетельствовали о начавшемся крушении идеи всеобщей электрофикации. Легендарная лампочка Ильича, похоже, вступала в стадию агонии по воле ненасытных утроб владеющих некогда народным огнем новых богов. Оборванные провода обреченно свисали над заброшенными траншеями для прокладки водопроводных труб.
Наконец в приоткрытые окна «жигуленка» крепко пахнуло навозом – цель придуманной Лизон Акции была близка, хотя, признаться, ехали они наобум.
В огромных длинных, похожих на ангары, сараях шумно дышало, похрюкивало и мычало неспокойное хвостатое население. Никаких сторожей, ни одного одинокого сторожа, ни намека на приспособленное под жилье ответственного за скотину человека. На стенах при дневном свете можно было бы прочитать бодрозовущее: «Увеличим надои! Обрадуем Родину!». А при неверном лунном свете отчетливо проступало лишь «…дуем Родину!». Готы и примкнувший к ним, буквально умирающий от желания гомерически расхохотаться Иеронимус по-партизански крались вдоль затертых временем и грязью колхозных лозунгов. «Снежные демоницы», не успевшие переодеться в более подходящую для подобных вылазок одежду, оставляли на торчавших из стен нечаянных гвоздях клочки белой ваты и белые перышки своего сказочного прикида. Их общий друг подарил неизвестно по какой-то причине присутствующему у самого входа в первый ангар-сарай здоровенному железному крюку приличный кусок рукава своего элегантного черного плаща. Тот же крюк поимел лоскут иеронимусовских джинсов, устроив естественную вентиляцию той части тела, которая располагается пониже спины…
- Несем материальные потери, - громко доложил Иеронимус соучастникам, - уходить буду по-рачьи.
Компания с трудом справилась со здоровенным засовом на дверях сарая и, ойкнув, отступила назад под ударом мощного, ничем не убиваемого запаха скотского хозяйства. Множество коровьих морд, не переставая что-то жевать, с удивлением взирали на нарушителей их ночного покоя.
- Эти медленно пойдут, они долго соображают, - хмыкнула Елизавета, - но дверь закрывать не будем, пускай проветриваются и сами решают, с кем они. Дадим рогатым шанс на последний мятеж.
Во втором сарае, куда они проникли без особого труда, действуя по отработанной схеме и так же оставляя на гвоздях перья «демониц», было веселее. В нем обитали дородные хрюшки и резвые поросята, не успевшие еще догадаться о смертельном свинстве ожидающей их в будущем участи.
Эту скотинку долго не пришлось уговаривать – стоили лишь открыть загоны, как поросята, наскакивая друг на друга и толкаясь, бросились вон. Взрослые же хрюшки, двигались медленнее, подслеповато щурясь, то и дело обмениваясь хриплыми «хрю-хрю». Им, видимо, с трудом верилось в шикарную перспективу свободного ночного выгула (или, бери выше – настоящего побега из свинарника) без скрытого подвоха. Особо недоверчивые видели за таким благодеянием хитроумный план мясных спецслужб – за условным порогом сарая их наверняка ждала какая-нибудь передвижная адская скотобойня.
-Свобода, свиньи, свобода! – кричали девчонки, бегая между резвящимися поросятами, - свобода, хрюшки!
- Бегите, бегите отсюда! – не унималась Елизавета, чья персональная месть вероломному Карлуше переросла уже во вселенскую МСТЮ целому мясокомбинату. – Иеронимус, давай в машину, гони их фарами на фиг!
-И вруби SLAYER!******* – подхватил сообразительный друг демониц,- от SLAYER’а они точно протащатся!
В третьем сарае между тем кто-то неизвестный, большой и сильный, тяжело и упорно колотился в закрытую дверь. Причем делал это молча, без единого звука, по которому можно было бы определить, что же это за упорная скотина такая.
-Может помочь? – стараясь перекричать включенную им музыку, предложил Иеронимус, - пособить живо…
Закончить фразу он не успел – дверь сарая со страшным грохотом рухнула на землю. В образовавшемся проеме стоял красавец-козел.
-Мэ-э-э-э! – победно выдал он, тряхнув бородой. Глаза его, взгляд которых был нацелен на резвящихся «демониц», полыхнули алым пламенем.
-Бафомет! Истинно Бафомет!******** – прокричал общий друг и… перекрестился.
… Рассветало. Они мчались по разбитой дороге к никогда не засыпающему городу, чуя сердцем, что все вблизи распахнутых настежь трех сараев-ангаров пришло в движение: люди, наконец, проснулись,очумели, загалдели, страшно заматерились, увидев в своих огородах вальяжно расхаживающих буренок. Те далеко не ушли, до конца не поверив в то, что этой чудесной ночью приходили освобождать их неизвестные готские партизаны… На велосипеде примчался-таки сторож, проведший ночь со своей милашкой-Наташкой, осознав масштаб развала хозяйства, закручинился, сел на пенек, обхватил гудящую от выпитой накануне паленой водки голову.
Поросята трусцой сыпали по выбоинам и колдобинам в прекрасное далеко. Весело подрагивали лихо закрученные хвостики и влажные пятачки. За недолгое время своей свободы – пока не отловили их по одному – свинячьи дети научились улыбаться.
А Козел, говорят, дошел до самого Арбата.
Сутки спустя после операции, получившей у Иеронимуса кодовое название «Бафомет», во дворе дома, помнившего гитлеровские бомбежки и сталинские Первомаи, Лизон совершала первый в жизни Ритуал Сожжения Поруганных Святынь… Сложила аккуратной кучкой свои длинные и короткие черные бархатные юбки, красно-черные корсеты, декольтированные платья с крыльями летучих мышей на спине, сапоги с бесконечной шнуровкой, торбы и сумки-гробики… Торжественно облила все бензином.
- Махмуд, поджигай!********* – мрачно бросила она Иеронимусу, собравшемуся было затянуть по такому трагическому случаю что-нибудь из репертуара Sisters of Mercy. **********. Только а капелла.
-Может, не надо? Может, лучше отдать в пользу детей-готов или сирот-готов? – жечь такую красоту у него не поднималась рука. Да и не в красоте было дело – в Иеронимусе вдруг проснулась так называемая жаба, стиснула горло мозолистой лапой - и ну душить! Столько денег вбухать в эти готские шмотки и пустить все прахом из-за какого-то карлика с комплексом Великана Неумехи! И потом – ну, вляпалась в такую дурацкую историю, не выдержала испытание на вшивость, посланное тебе Штаб-квартирой Черной аристократии, так отдай униформу другому, кто все понял бы, выстоял и на все сто процентов принял бы в себя истинно готский дух!
-Поджигай, марсианин, от этих тряпок несет гнилым мясцом!
…Горело красиво. Умирало живописно. Особенно мышиные крылышки. Дольше всех сопротивлялись огню сапоги. Лизон тихо плакала, сидя у костра на детском пластмассовом стульчике, одетая в розовое воздушное платье для бальных танцев, которое ей принес из дома Кондратьич… Сам же папаня пристроился под древней липой, некогда раненной топориком мясника, на месте царя Петра Алексеевича Первого, и пил пиво. Участковый был в отпуске и мог позволить себе расслабиться.
Иеронимус негромко бил по дну старой кастрюли и пел о Лизкиной печали, но по-иностранному… Получалось красиво, хотя и не понятно.
II
… Итак, за дверью никого не было. Протянуло пару раз сквозняком – в подъезд кто-то вошел, из подъезда кто-то вышел. Затем закопошились тремя этажами выше, громыхнул лифт, хлопнула дверь. Вскрикнула женщина, смачно ругнулся мужчина и тяжело потопал вниз…
И вот перед вышедшим на площадку Иеронимусом стоял сэр Мымыкин, известный композитор, автор целой кучи поп-хитов, пьяный и разъяренный. «Ну почему же не сэр Пол МакКартни?!» - пронеслась в голове Иеронимуса шальная мысль. Глаза Мымыкина каким-то странным образом серебрились, что случалось каждый раз, когда он выпивал больше положенного организмом. Зрачки неизменно сужались до размеров крохотной точки, а радужная оболочка и глазное яблоко наполнялись лунным свечением. Неоднократно наблюдая за странными процессами хитрого остекленения, Иеронимус втайне считал Мымыкина ловко маскирующимся под музыканта оборотнем.
- А, Босх, - композитор шумно вдохнул горячий воздух подъезда. - Проинтуичил чего? Или покурить?
- Вроде, в дверь кто-то минуту назад позвонил. Смотрим, а за дверью никого…
Мымыкин помолчал, сплюнул на коврик и выдал на одном дыхании, поеживаясь, будто бы от холода:
- Ага, Босх, это дух Серого тебе в дверь трезвонил, прощаться приходил… Он все-таки сделал ЭТО, сделал. Я же подписку за него давал в психушке. Ты мне еще говорил, что зря, что тот, кто делает ЭТО несколько раз, не остановится, пока своего не добьется. Я тебя тогда еще на хер послал, да, Босх?
Иеронимус кивнул – послал его тогда Мымыкин мощно, с вывертом, с художественной выдумкой, в присутствии всей честной компании. Теперь выходит, что Иеронимус был прав и посылать его за Мобуку не было никакой необходимости…
… Серый жил на последнем этаже, у самого неба, как любил говорить он сам. Поначалу был местным дворником, но так как принадлежал к лучшим представителям поколения не только дворников, но и сторожей, скоро начал выдавать на-гора стихи… Складные, однако чрезвычайно наивные, почему-то про тамплиеров. Кому нужны были байки о рыцарях красного креста и исчезнувших в британских туманах сокровищах, когда у нас то Ленин на броневике, то Ельцин на танке, то танки на народ, то народ под танки, то бронетранспортеры на Верховный Совет, то генный сбой в мировой правящей элите – и ни одного вождя, статью или ростом напоминающего некогда блиставших де Голля *, Гамаль Абдель Насера**, Фиделя Кастро***… Ельцин, может, телом-то соответствовал лучшим генно-инженерным стандартам, но почему-то падал с моста в речку, как Буратино, а золотого ключика так и не нашел, с Тортиллой не подружился, не вовремя дирижировал совсем не теми, кем надо было бы дирижировать, и голову свою красиво причесанную, на рельсы в страшный час кризиса, как обещал, не положил. Обманул доверчивых дорогих россиян. И жрать почти все время нечего. Или жратвы завались, но не для всех. Вот и думайте - до тамплиеров ли России?!
…Первый нечаянно сочиненный песенный текст Серый продал с концами за банку соленых огурцов какому-то мутному тенорку в кафе «Метелица» на Новом Арбате. Уж больно есть хотелось. Тенорок поставил свою фамилию и под текстом, и под музыкой, купленной несколько дороже – за бутылку португальского портвейна и португальские же сардины, и стал любимцем простых граждан бывшего Советского Союза, занятых по ночам прозаическим перепихоном, но в душе жаждущих романтической любви. Чтоб как в книжках: или принц на белом коне с законным предложением штампа в паспорте, или принцесса Краса-Некрашены волоса, прокладывающая крепкой грудью дорогу к семейному замку, чтоб вместе над заначенным златом ворковать и чахнуть.
Сколько Серый ни сочинял – а после первого опыта с банкой огурцов его как прорвало – на жизнь катастрофически не хватало. Во-первых, ушлые музыканты умудрялись текстотворца своего обманывать и обсчитывать, ссылаясь на трудные времена. Во-вторых, женщины Серого всегда были роскошны и требовали от него поддержания этой пошлой роскоши, хотя долго в однокомнатной квартирке под носом у господа Бога не задерживались. Словно трудовое красное знамя, переходили они от Серого к более удачливым композиторам, а далее – с краткосрочными остановками - в объятия музыкантов аккомпанирующих составов не только Москвы и Московской области, но и Неметчины и даже Американщины.
Последняя роскошная блондинка, назвавшаяся при знакомстве многообещающим именем Роксана, задержалась у Серого ровно на 9 месяцев, величая светящегося счастьем от видимости настоящей супружеской жизни поэта «Мой Саша Македонский». «Македонский», но отнюдь не Саша, в роксановскую эпоху шеголял в ярко-красных дырявых носках, коротковатых брюках в нэпоманскую полоску и необъятной майке с черно-серым ликом певца английской романтики Стинга на груди. Еще никогда ему так легко не сочинялось – тамлиеры, госпитальеры, масоны всех мастей, включая Якова Брюса из Сухаревской башни, были увековечены, наконец, в поэмах. Песни на его вполне человеческие, не позорные стихи, звучали на всех уважаемых населением радиостанциях. Сереброокий Мымыкин, кровожадно присосавшийся к поэту, не подпускал к нему своих конкурентов на пушечный выстрел, греб деньги лопатой, отстегивая от щедрот своих кое-что Серому…
- Если ему много бабла дашь, - откровенничал Мымыкин с Иеронимусом, которого искренне полюбил за необычайное имя и непреходящую любовь к артефактной группе Пинк Флойд, - он все пропьет или бабам своим отдаст. Я за его квартиру плачу? Плачу. Жратву покупаю? Покупаю. Серый на полном пансионе. Даже синтезатор ему притащил, чтоб стишата свои пропевал…
- Мымыкин, - начинал свою тираду Иеронимус и мысленно втыкал Мымыкину в петлицу желтую орхидею как отличительный знак измены и подлости. С годами он научился четко отделять уникальное творчество музыкантов от их личной гнилости. - Ты ведь унижаешь поэта, клевого чувака к нулю сводишь. Пользуешься тем, что он не боец. Ты же вор, Мымыкин, натуральный ворюга и проходимец.
- А у нас вся страна такая, проходимистая, - предполагаемый оборотень ничуть не обижался на слова Иеронимуса. - Заметь, здесь все друг друга унижают. Вершки унижают корешки, гондонами обозвать на весь мир могут запросто или бандерлогами, а униженные корешки унижают подкорешки. Рисуй дальше схему ступенчатую… Только не надо мне про величие России, про ее особую миссию и наш непобедимый дух, мы ж не лохи с тобой, чтоб лапшу друг другу на уши вешать. Что было, то сплыло. Вырожденцы мы, Иеронимус, вы-рож-ден-цы. Родители наши последними нормальными людьми были. А нас голыми руками можно брать, ни совести, ни чести, зато дворяне резиновые попадаются… Зубов нет, шипов-то нет, одни рога остались. «Рога?» Класс!
И Мымыкин, на всякий случай ощупывая лысеющую голову, принимался хохотать, довольный своей шуткой.
Блондинка Роксана исчезла осенью, родив и оставив Серому сына, маленького хилого человечка с большой белобрысой головой. В том, что молчаливое, страдающее желудочными коликами существо было сыном именно поэта, можно было бы, конечно, усомниться, если бы не левое ухо малыша. Оно оттопыривалость точно так же, как левое ухо Серого.
Дивная оттопыренность ушей считалась отличительным знаком семейства Серого, особой приметой, фирменным знаком рода, некогда раскланивающегося на Невском проспекте с самим Федором Михайловичем Достоевским.
У младенцев мужского пола обычно оттопыривалось левое ушко, женского – правое. Последнее время правооттопыренных становилось все больше, количество левооттопыренных резко сокращалось. Судя по всему, брошенный Роксаной младенец мог оказаться последним представителем семейства.
Ибо к началу нового тысячелетия предпоследний представитель в лице поэта Серого элементарно устал. Устал жить. И у самого синего неба. И за пазухой у Мымыкина. И в маете бессонных ночей, когда десяток мышей маршировали к пустому холодильнику, чтобы там торжественно повеситься, а капризная Муза выкручивала в прихожей последнюю лампочку для создания интима и вдохновения. Устал от бесконечной череды посиделок в компании непризнанных гениев, которых все прибывало и прибывало. Иногда он представлял себе это воинство в виде огромного скопления людей с удивительно похожими друг на друга чумазыми лицами и в белых хитонах. Как правило, большие пальцы на уставших, прошедших аж по далеким снегам Килиманджаро, ногах отличались корявостью и недоразвитостью. Желтоватые ногти по-птичьи загибались, становясь подобием когтей и мешая передвижению по земле. Белое воинство обычно колыхалось, исходя непонятным человеческим волнением, опоясывало земной шар по экватору босоногой белой лентой. Временами Серый придумывал так, что этот белый пояс начинал сжиматься, выталкивал одно звено за другим, и земной шар переставал быть шаром – получались этакие песочные часы, в которых песок Африки неминуемо посыплется на головы обитающих на Южном Полюсе пингвинов.
Серый переставал понимать окружающих: казалось, новый дивный мир разговаривал с ним на непереводимом тарабарском языке. Он пытался объясняться жестами – руки наталкивались на невидимую, очень прочную стену… Через какое-то время Серый уже не мог различать доносившиеся из-за этой стены звуки. Те, кто находились по ту сторону, беззвучно разевали рты, беззвучно смеялись, корчили Серому рожи и… танцевали. Но музыки он не слышал… А если бы и услышал, то не понял бы, что это – музыка.
Усталость окончательно прижала Серого к асфальту после стремительного исчезновения красавицы Роксаны – что делать с оставленной на его попечение собственной копией, он решительно не знал. Копия пищала, требовала кормежки, синела от холода, пачкала памперсы, разрушала сомнительными ароматами и воплями все рифмы и идеи. Занервничал и Мымыкин, планы которого по созданию нетленок резко пошатнулись… Подкралась мысль: сдать копию Серого в приют и навсегда забыть ее там, среди таких же никому не нужных винтиков и кирпичиков колченогого общества.
- Не отдам я его, - неожиданно для самого себя пробасил Серый, уловив пораженческое настроение композитора, - моя ведь частица, плоть от плоти. Сыном полка будет.
Количество заботящихся о новом левооттопыренном до полка явно не дотягивало – имелись в наличии пара временно холостых музыкантов, да Иеронимус с Лизон, которая впала в небывалую ажиотацию из-за подключения к кампании вынужденного материнства, повязала голову цветастым платочком, ввела в обиход устаревшие подгузники и по выходным привлекала к прогулкам с коляской участкового Кондратьича.
Тем временем Серый, из последних сил превозмогая усталость, упал в глубины Интернета и принялся засевать поле сетевого стихосложения своими произведениями, которые для нового поколения чаще всего казались обычным набором слов, лишенных какого-либо смысла. Не понимая, что его ловко и азартно завлекают в петлю, он, как мог, сопротивлялся потоку глумливых комментариев и хамских замечаний, пытаясь объяснить паясничающим анонимам необъяснимое – поэзию.
- Да пойми ты, чучело, - говорил ему Иеронимус, гладя утюгом выстиранные Лизон подгузники копии Серого, - только дуракам и полным идиотам растолковывают смысл написанного. Кто не просекает, тот сам отвалится… Это еще Боб Дилан сказал.
- Какой Боб Дилан? Что им Боб Дилан? – Серый остервенело рвал исписанные ночью карандашом страницы. – Да они и Боба Дилана с говном смешают, уже только за то, что он Боб какой-то…
- Но от нашего доморощенного говна Дилан не превратится в прыщавого Васю Пупкина. Не обращай внимания на кретинов, делай свое дело, здоровее будешь… Вот, Колчак Блока хотел повесить на пару с Горьким, того же Блока Маяковский называл мертвецом при жизни - и что? Да всех поэтов-писателей всегда травили. Нормально это, Серый, учись у Прилепина – он таких троллей в гробу видал… А ведь мог бы по стенам размазать, с него станется.
Серый Прилепина не читал, хотя фамилию слышал, Боба Дилана-Циммермана не слушал никогда, Маяковского органически не переваривал. Как, впрочем, и Максима Горького. Оставался один Блок, но он один ничего для Серого не решал.
Когда именно Серый решил в первый раз отключиться от этой жизни, сыграть роль уходящего в небытие буддистского монаха, трудно сказать…
Тогда он долго ехал на электричке, потом медленно шел к реке, не скованной городским гранитом, по пути поднимая с дороги и пряча в карман камни. В одном английском романе он читал, как сводила счеты с реальностью одна свихнувшаяся от разочарований аристократка. И пальто у дамы было тоже черное, и карманов было много, и камни попадались увесистые… Только замешано в ее самоубийстве было море, а не пытающаяся из последних сил казаться полноводной речушка. Конечно, можно сигануть с моста прямо в центре Москвы. Но тогда исчез бы этот момент тишины, тайны. Сразу сбежится народ, припрется какой-нибудь психолог. Нет, уходить надо так, как заканчивается музыка, – на затихании… Раствориться в прямом и переносном смысле.
Вода обожгла холодом, ноги онемели, судорогой свело руки, затылок вдруг налился свинцом. Несколько шагов вглубь дались Серому с таким трудом, что он чуть не закричал от отчаяния. Полы пальто намокли, каждый ботинок теперь весил килограммов сто. Вдалеке прогудел поезд, залаяла собака… Еще три шага. Вода не дошла даже до пояса, как мимо пытавшегося погрузиться в нее поэта медленно проплыл дохлый кабан с задранными кверху всеми четырьмя ногами. С необычной легкостью, с каким-то радостным облегчением от осознания неудачи Серый бросился обратно к берегу, выбрасывая из карманов пальто камни… Представил себя таким же бездыханным кабанчиком, только на дне и долго отплевывал на берегу горькую слюну… Река еще несколько раз качнула перед ним на волнах кабанью тушу и понесла дальше. Может, к морю, может, к океану, может, в царство славного Салтана…
Два или три раза Серый пытался вскрыть себе вены, друзья вовремя его находили, врывались в квартиру, откачивали сами или вызывали «скорую»… После очередной попытки свести счеты с жизнью, заглянув за запретную черту и увидев там нечто, он творил поэтические чудеса. Мымыкин довольно урчал, прикидывая сказочную прибыль от продажи их совместных песен поп-звездам и звездулькам. Или, как говорил в минуты откровения сам композитор – звездным пОпам. И пусть злостные анонимы исходят завистью и гноем!
Под Новый год появилась Роксана - на черном «Лексусе» самого страшного конкурента Мымыкина. Она погрузила в машину все, что могла вынести из квартиры Серого, включая чертов компьютер. А в конце операции по захвату поэтической собственности вырвала из рук оторопевшей Лизон заметно прибавившего в весе «сына полка»….
- …Захожу к нему сегодня, а он уже того. - Мымыкин развел руками, меряя шагами лестничную клетку и спотыкаясь о выбитый из пола кусок плитки. - Вчера с ребятами, вроде, пили, а сегодня - вот… Записку оставил, что устал жить, что чужой он в этой жизни, не понимает ничего, надоело все и просвета не видит. И стихи свои ненавидит…
Никто из певших его песни «звезд» проститься с Серым не приехал, хотя ждали до последнего. В маленьком автобусе сидело человек семь, не больше. Время тянулось медленно, тяжелые капли дождя бомбардировали город, ветер привычно рвался снести рекламные щиты. На душе было тоскливо – в том, что случилось, Иеронимус винил себя. Ведь знал же, чем дело закончится, предупреждал об этом Мымыкина. Но расслабился, сбитый с толку веселостью Серого. Тот в свой последний вечер забрался на кухонный стол и в полный голос запел их любимую песню о безумном бриллианте****.Да-да, потом они еще обсуждали, что любой из нас по-своему безумен, любой из нас по-своему бриллиант… Самым интригующим было то, что Иеронимус, через пару часов спустившись к себе, не просто заснул – рухнул в сон, будто его на время исключили из окружающего мира и продержали в пропасти до следующего утра, когда все и случилось. Там, в квартире у самого неба.
…В автобус заглядывали какие-то посторонние люди, мимо деловито пробегали крематорские псы. Сидевшие у гроба тихо переговаривались – словно боялись разбудить лежавшего внутри тяжелого полированного ящика. У Серого в жизни не было такого дорогого, красивого жилья… Незнакомая Иеронимусу девушка тихонько всхлипывала, жаловалась, что в Сети до сих пор ни слова, ни строчечки об этой смерти, все воды в рот набрали, хотя кое-что уже было известно…
Прощание по цветовой гамме походило на кадры из старого итальянского фильма. Под звучание заученных казенных фраз распорядительницы Иеронимус вглядывался в удивительно умиротворенное лицо Серого – черты лица друга почему-то расплывались, затягивались дымкой… Непокорное чуть оттопыренное левое ухо, седые волосы ежиком. Серый рано поседел… https://venus-escort.ch
…Неожиданно ухнул филин, профессионально создавший себя из абсолютного Ничего. Звук был такой, словно некто, охрипший от долгой ангины, от всей измученной антибиотиками души (или же, попросту говоря, сдуру) гаркнул в пустую железную бочку. А может, в замшелый деревенский колодец. Эхо, встрепенувшееся от получившегося колебания воздуха, старательно принялось множить ядреный звук, потащило, понесло его вдоль серых стен знакомых пятиэтажек, старательно впихивая в невидимые обычному человеческому глазу пространственные завихрения. Где-то, за пределами нашего с тобой понимания, глубоко вдохнул и выдохнул томившийся в кастрюльке дольше положенного аппетитнейший бабушкин гороховый суп; где-то звякнул замолчавший было на веки вечные станционный медный колокол, и старенький паровоз потянул по давно заросшим гигантскими желтыми цветами рельсам вагончики, груженые воспоминаниями о восхитительном шуршании листьев сахарного тростника; где-то, в N-м по счету параллельном мире князь Владимир отсек с утра пораньше мудрые головы гонцов-послов-соглядатаев, отверг подсмотренную в роскошной Византии идею православия и решил к полудню обратить Русь в католицизм, а через часа три - и того пуще: в иудаизм со всеми далеко идущими для истории мира последствиями; где-то, под толстым слоем степной пыли, прядал ушами призрачный Тамерланов конь, а сам великий полководец приоткрыл свои азиатские очи, прислушиваясь – не пора ли восстать из мертвенной лени, воззвать к своим бесстрашным воинам и в очередной раз показать зажравшимся цивилизацией белым людям отменную шайтанову мать по-азиатски.
Временные параллели противозаконно схлестнулись, переплелись десятком морских узлов в сознании Иеронимуса, опечаленного смертью приятеля. Окружающее его серое мартовское пространство исказилось до неузнаваемости. И, как говаривал некогда теперь уже покойный Серый, начался несанкционированный фантазийный трип…
…Обычные стены, несколько осев в бедную городскую почву, воспряли тяжелым зеленым мрамором с желтыми прожилками, оттопырились балконами с дивными чугунными решетками в виде виноградных лоз. На балконах теснились хлипкие барышни тургеневского облика и мощные матроны а ля маэстро Рубенс***** – все они рыдали на разные голоса и остервенело пилили тонкие и тонкие запястья кто чем придется. Мелькали плохо наточенные кухонные ножи, осколки фарфоровых блюдец Ленинградского Императорского завода, бесхитростные в своей остроте лезвия опасных бритв. Капли крови то и дело шлепали на бугристую мостовую и тут же высыхали черными пятнами под лучами пробившегося сквозь занавес черных туч лихорадочного солнца.
По вновь образовавшейся улице некрасивые карлики с растрепанными седыми волосами, в давно не стираных черных балахонах тащили огромные носилки с забальзамированным телом Серого. Проходя мимо остолбеневшего от изумления Иеронимуса, старшина карликов недовольно прогундосил: «Звали мы его, звали громким голосом. Не откликается. Мертв. Безнадежно мертв». И, долю секунды подумав, вспомнив о своем происхождении, карлик добавил: «Сэр!».
Среди публики, набежавшей поглазеть на странную похоронную процессию, особенно живописно выглядели огненно-рыжие баньши. Они выли по-волчьи, тонкими бледными пальцами пытались разорвать в клочья серые плащи, сшитые из не известной простому смертному и ничем не сокрушаемой материи, плакали, имитируя крики новорожденных младенцев. Одна баньша то и дело прерывала свои вопли, похожие на крик откормленной к Рождеству гусыни, странной фразой. Причем произносила ее совершенно обычным, будничным тоном, без какого-либо намека на трагизм: «С моста бы в реку, с моста бы в реку…».
Неверный свет доброго десятка отчаянно коптивших факелов, которые сжимали в лапах идущие рядом с карликами дрессированные медведи, освещал венок из дубовых листьев, украшавший голову Серого. Румяна, нанесенные безымянным гримером на впалые щеки умершего, начали подтаивать и грозили стечь алыми ручейками на шелковое покрывало. В самых потаенных глубинах памяти Иеронимуса шевельнулось хилое институтское знание о приблизительном составе таких румян. «Судя по всему, бычьего навоза пожалели или крокодильих экскрементов», - такая вот некрасивая, кощунственная по отношению к приятелю, мысль последовала за осторожным шевелением памяти.
За медведями шли, приплясывая, полупьяные сатиры, били в тамтамы, трещали деревянными трещотками, орали дурными голосами:
Погиб поэт, невольник чести,
И ни стихов теперь, ни песен,
И ни жены, и ни невесты,
Эх, бубны, черви, пики, крести!
Чуть в стороне от сатиров, явно стыдясь своей причастности к погребальному скоморошеству, шел двойник Серого. Волосы седоватым ежиком, черные круги под глазами, прикушенная нижняя губа. Даже левое ухо у него оттопыривалось с полным соблюдением анатомических особенностей вымирающего рода. На спине у двойника на всякий случай, в расчете на тех, кто не был знаком с умершим, болталась в такт шагам небольшая табличка «Почивший».
Процессию замыкал сбежавший с колокольни, где он должен был находиться по вековому мифическому статусу, церковный грим******. По его истерзанному виду, по исцарапанной чьими-то острыми когтями морде Иеронимус понял – не лететь душе Серого в райские кущи бить баклуши. Дорога ушедшего по собственной воле из жизни лежала прямиком в адскую кочегарку… И, как бы в подтверждение этой догадки конец привидевшейся Иеронимусу улицы, мощно, безапелляционно полыхнул жарким пламенем. Во внезапно образовавшемся пекле исчезли носилки с покойником. Карлики, цирковые медведи, баньши, сатиры, двойник-архимим с треском лопались, словно детские воздушные шарики.
Уходили, вернее, оплывали, в землю мраморные узорчатые стены, рассыпались в прах охранявшие входы грифоны, таяли в горячем воздухе тургеневские барышни и матроны, так и не допилившие свои несчастные вены…
- Кончено! – тихо произнесла Лизон экс-Батори за спиной Иеронимуса, возвращая того из фантазийного трипа в мрачный ритуальный зал. Бесцветная служительница, нисколечко не похожая на огненно-рыжую баньшу, тщилась прицепить на торчавший из крышки гроба гвоздь бумажку с фамилией Серого. Но вот дрогнула конвейерная лента, и деревянный ящик, заполненный мертвыми рифмами и уже никому не ведомыми страданиями, двинулся к жадно распахнувшимся дверцам придуманной людьми преисподней. Лизон всхлипнула. Может, для порядка, может, действительно горюя…Безымянный гитарист беззвучно выругался, вложив в свой матерный реквием всю ненависть к жестокой и неминуемой человеческой разлучнице.
Оставалось всего пара сантиметров до полного исчезновения Серого по ту сторону задверного пространства, как в кармане Иеронимуса тихо звякнул мобильник – кто-то прислал эсэмэску…
…Он прочитал ее уже в метро, прижатый двумя потенциальными воинами Тамерлана к двери с надписью «Не прислоняться».
«Все было именно так, как ты видел. – Буквы на экранчике телефона, ошарашивая, полыхнули алым. - А грифоны откладывают яйца из агата. Спасибо, друг. Серый».
«Я живу со скоростью фантазии, ты живешь со скоростью разума. У меня ничего нет, но я богат и счастлив. У тебя есть все, но ты нищ и несчастлив», - жаль, что так когда-то сказал не Иеронимус, а Серый.
Ссылки
Ссылки даются на всякий случай. Чтобы облегчить прочтение «Оттопыренности» людям плохо знакомым с рок-музыкой, мировой историей и т.д. Когда сочиняешь что-либо, не думаешь, что кто-то может не знать интересующих тебя тем. Беру пример с писателя Йена Бэнкса, обильно начиняющего свои произведении названиями рок-групп и отсылками к песням.
1-я часть
*Елизавета (Эржебет) Батори - или Кровавая Графиня, убившая 650 девушек, пытавшаяся обрести бессмертие за счет уничтожения более юных созданий. Родилась в одном из замков Трансильвании. Известный граф Дракула считается ее дальним родственником. Этот образ пользуется популярностью у литераторов и рок-музыкантов.
** группа Cradle of Filth – английская рок-группа, выпустившая альбом «Cruelty and The Beast», посвященный графине Батори. Тяжелая музыка, насыщенная лирика песен.
*** батори – единица жестокости, придуманная Иеронимусом.
**** Несколько видоизмененные строки из «Арии Батори» (альбом «Cruelty and The Beast”).
***** «Stalingrad» - песня группы Accept с альбома “Stalingrad” (2012)
******Free my ass! (англ.) – Свободу моей заднице!
******* Slayer- американская метал-группа, созданная в 1981 году, одна из самых великих «тяжелых» команд. Имеет интересную историю во всех аспектах, включая идеологические.
******** « Бафомет! Истинно Бафомет!» – гот решил, что перед ним сам Дьявол.
Вообще-то Бафомет (получеловек-полукозел) – фигура загадочная. Бафомета так же называют Козлом Мендеса, Черным Козлом или Козлом Иуды. Самое известное изображение создано французским оккультистом Элифасом Леви. Если посмотреть на большую часть рисунков Б., увидим двуполое существо с рогами, со змеями в волосах, с цепями и крестом в руке, окруженное символическими фигурами в виде солнца, луны, черепа и т.д. («Mines de L’Orient» барона Гаммер-Пургстльена). Церковники толкуют это слово как символ Дьявола после появления организации под названием «Церковь Сатаны» (см. Шандор ЛаВэй), которая приняла слово «Бафомет» в качестве своего символа. Многие связывают Бафомета с орденом тамплиеров, поклонение голове Бафомета вменялось храмовникам в вину церковью. Короче, историй о Бафомете множество.
********* «Махмуд, поджигай!» - фраза из культового советского кинофильма «Белое солнце пустыни».
********** Sisters of Mercy - британская группа. Главный человек в группе Эндрью Элдрич. Считаются (хотя Эндрью это отрицает) коллективом, оказавшим сильное влияние на становление готик-рока.
2-я часть
*Гамаль Абдель Насер (Джамаль Абд ан-Насир) (1918-70) – президент Египта с 1956 года. По профессии – военный. Основатель и руководитель организации «Свободыне офицеры», осуществившей революционный переворот 23 июля 1952 года. Провел крупные преобразования во всех областях жизни Египта. Точных данных о его росте обнаружить в Инете не удалось. Но был он мужчиной довольно высокий, крепчайшего телосложения. Впервые проявился в моем сознании благодаря прочтению книги английского писателя Джеймса Олриджа «Последний изгнанник».
** Шарль де Голль (1890-1970) – президент Франции в 1958-69 гг. В 1940 г. организовал в Лондоне патриотическое движение «Свободная Франция», примкнувшее к антигитлеровской коалиции. В 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета, в 1943 г. – Французского комитета национального освобождения в Алжире. После войны основал и руководил партией «Объединение французского народа». Харизматичная, несгибаемая личность, отстаивал политическую независимость страны, вывел Францию из НАТО.
Рост – 1.96 м
*** Фидель Алехадро Кастро Рус (1926 - ) – вождь кубинской революции. Его биографию можно читать, как приключенческий роман…Лауреат Международной Ленинской премии, Герой Советского Союза. Награжден североамериканскими индейцами «Орлиным пером»,
высшей наградой коренных жителей США. Его можно любить или ненавидеть, но великим и уникальным Фиделя признают все.
«Фидель – это сила природы» - сказал писатель Габриэль Гарсиа Маркес.
Рост – 1.90 см
**** Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – глава фламандской школы живописи эпохи барокко. Наш М. Карамзин назвал Рубенса «фламандским Рафаэлем». Женщины на полотнах художника словно «созданы из молока и крови». Говоря проще – очень аппетитны!
***** … «песня о безумном бриллианте» - речь идет о песне « Shine On You Crazy Diamond» группы Пинк Флойд (альбом “Wish You Were Here” 1975 г.), стихи Роджера Уотерса. Песня посвящена Сиду Барретту. Обычно люди, пережившие те времена, любившие музыку тех времен, украдкой или открыто плачут под звуки этой песни, которую по-прежнему исполняют и Уотерс, и Дэвид Гилмор.
****** церковный грим – по средневековым европейским поверьям гримы обитали по всей территории Европы. Чаще всего встречаются на старых кладбищах вблизи церквей. Могут принимать различные обличья, но чаще всего превращаются в больших черных псов с горящими глазами. Любят пугать людей, воют под окнами больных, предвещая их уход из жизни. Могут ночью забраться на колокольню и звонить в колокол. В виде огромного черного пса грима можно наблюдать во время похорон неподалеку от вырытой могилы. И по внешнему виду грима определяется, куда попадет душа умершего: в рай или ад. Бояться грима не стоит, он не причинит вам вреда.